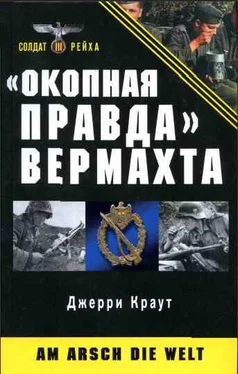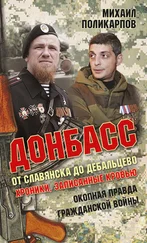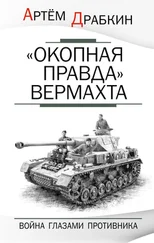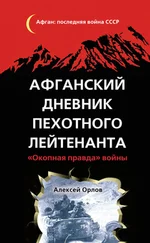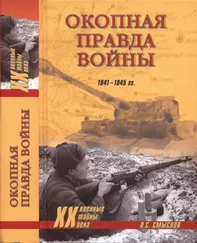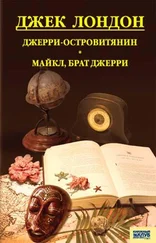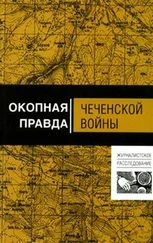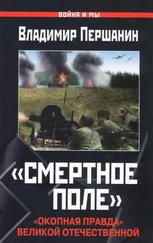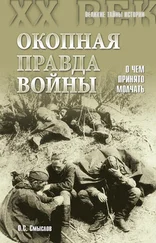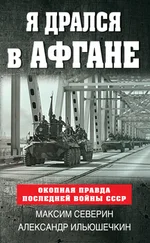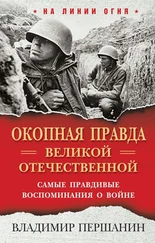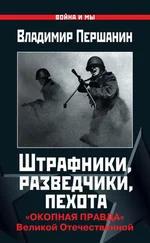— Почему они не могут просто забыть об этом? — спросил Фишер.
— Можно ли забыть все эти годы? — спросил в ответ Рихарде. — Годы, которые мы потеряли? Которые сделали тебя тем, кто ты есть? Огромную дыру?.. Когда меня забрали, мне было семнадцать. Когда меня выплюнули обратно, мне было двадцать один. А потом этот период несчастий. Я повсюду ищу потерянные годы, но знаю, что мне их не найти никогда».
Позднее, размышляя об этом разговоре, Фишер задается вопросом: «Что же нас одолело?»
«Ответа он не знал… Разговор с Рихардсом не шел из головы, и он снова вспомнил о потерянных годах… Он гнался за потерянными годами, но так и не смог их нагнать…
Он говорил себе, что и без войны все могло пойти не лучшим образом. Но из-за войны по-другому быть и не могло… Война его уничтожила… Он не был единственным, но это не утешало. Были еще и миллионы других, но главным было то, что он — один из этих миллионов».
Для литературного Фишера и тех, кого он символизировал, война была вечной. Неважно, как быстро они бежали, но убежать от воспоминаний о пережитом или вернуть утраченные годы они не могли. «Огромная дыра» была не столько физической потерей этих лет, сколько чувством отчаяния, разочарования и меланхолии, сопровождавшим их в последующей жизни. Вот как Рихарде пытался объяснить это тем, кому не пришлось пережить эти годы:
«В начале 1946 года я вернулся во Франкфурт. Я жаждал новой жизни… Я говорил себе, что нужно забыть боль… Это позволило мне протянуть некоторое время… В первые месяцы после войны приходилось изрядно потрудиться, чтобы получить крышу над головой и набить желудок едой. Но, по мере того как все приходило в норму, появлялось все больше времени на раздумья… Тогда я понял, что живу без цели и смысла…
Проблема больше даже не в том, что это случилось, а в том, как это случилось… Они погибли бессмысленной смертью… Выброшенная жизнь. На этой войне миллионы людей погибли бессмысленно… и это было важно».
Для Рихардса, как, возможно, и для его создателя Хер-баха, покончившего с собой в 1988 году, единственным уроком войны стала ее бессмысленность: люди гибли ни за что, а другие потом влачили бесцельное существование.
Значительная часть военной литературы, опубликованной в Германии в первое десятилетие после войны, была литературой «маленьких людей», ефрейторов и рядовых, которые видели эту войну из окопов. Бывшие солдаты, писавшие, основываясь на личном опыте, такие как Михаэль Хербах, Генрих Герлах, Ганс-Гельмут Кирст, Вольфганг Отт и Вилли Хайнрих, стремились передать сущность войны «снизу», возможно, пытаясь таким образом прорвать собственную послевоенную изоляцию, донести сложность и неоднозначность своего жизненного опыта до других. Критики такого подхода, сами бывшие солдаты, такие как Генрих Бёлль и Альфред Андерш, отказывались воспринимать «нормальность» повседневной военной жизни, особенно на войне, которая велась за достижение целей национал-социализма, стараясь вместо этого показать, как война уничтожала жизни и индивидуальность тех, кто оказался втянут в нее. Между этими двумя полюсами лежала проблема интерпретации: следует ли показывать личные аспекты военного опыта, рискуя упустить из виду или преподнести как «норму» преступления нацистов, или необходимо уделять внимание более значительным вопросам вины нацистов и Германии, дистанцируясь при этом от страданий и точки зрения «маленького человека»?
Но на полках книжных магазинов оба подхода потерпели поражение. Хотя многие из ранних романов «простых солдат» переиздавались, а Бёлль как первый немецкий автор, удостоенный Нобелевской премии по литературе после Томаса Манна (1929 год), стал значительной фигурой немецкой литературной сцены, оба этих направления оказались в тени бульварного «военного чтива» — недорогих серий романов, регулярно появлявшихся в газетных киосках Германии. Публикуемые якобы для того, чтобы предостерегать против новой войны, на самом деле эти произведения размывали сложный солдатский опыт, сводя войну к идиллическому приключению, полному товарищества и отваги, в котором главный герой совершает захватывающие и романтические подвиги. Поскольку эти «романы» якобы изображают исторические события, а большинство их читателей не достигли двадцатипятилетнего возраста, существует риск повторения в Федеративной Республике волны военных романов, затопивших в свое время Веймарскую республику, в которых будет восславляться мнимое раскрепощающее действие войны.
Читать дальше