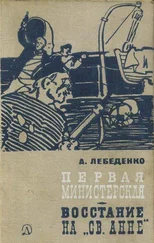Казалось, выхода никакого нет. Казалось, пришел конец…
Вот ты читаешь мое письмо, милая Полинка, и, пожалуй, думаешь: „Господи, ведь за это время перед глазами Федора должна пройти целая жизнь. Только он торжествовал победу над сбитым им немцем, только размышлял, разделаться ли ему с теми фашистами, которым, может быть, удастся выброситься с парашютами, вспоминал слова комиссара эскадрильи и Миколы Череды, увидал, наверно, и меня в маленьком сибирском городке, а тут еще надо принимать решение, что делать, чтобы не подставить себя под удар идущему в лоб немецкому истребителю, пережить минуту, которая, может статься, будет его последней минутой — как же все это вместить в сознание, которое лихорадочно бьется, как зверек в клетке, мечется, и от этого можно сойти с ума…“
Все это совсем не так, дорогая Полинка. У меня вряд ли найдутся такие слова, чтобы понятно объяснить тебе, как все происходит на самом деле. Но попробую…
Ты; конечно, не раз видела, как сверкает молния, когда вблизи тебя или над твоей головой грохочет гроза. Вот сверкнет она, молния, ты невольно зажмуришься, а когда откроешь глаза — все кажется куда светлее, чем было мгновение назад, яснее, отчетливее и прозрачнее.
Примерно то же самое происходит и в бою. Возможно, что в короткие минуты боя, перед лицом смертельной опасности перед тобой и вправду промелькнет вся твоя жизнь, и ты многое увидишь и многое вспомнишь, но все это — как блеск молнии в твоем сознании — короткий, почти неуловимый. Лично я думаю, что включается в работу п-о-д-с-о-з-н-а-н-и-е, инстинкт, все нервные центры, которые до этого могли дремать.
Вот я говорю: я увидал идущего мне в лоб немецкого истребителя и начинаю размышлять: что делать? Отвернуть? Сделать свечу? Пойти на петлю? Это я говорю, как бы исследуя свои поступки сейчас, когда все уже позади. А тогда? Если бы мне пришлось размышлять обо всем тогда, меня бы уже не было в живых. Представь себе: немец мчится прямо на меня, мчится с бешеной скоростью, а я сижу, размышляю, анализирую, исследую, ищу подходящие варианты боя. А немец? Он что — ожидает, когда я найду этот самый подходящий вариант?
Именно в бою подключаются все нервные центры и подсознание. Если у летчика все это заторможено — такому летчику в бою делать нечего. Ты только, ради Бога, не подумай, что я у тебя такой вот единственный „расторможенный“, такой вот летчик-ас, который всех немецких летчиков заткнет за пояс. Мне, например, до командира эскадрильи Булатова, до Миколы Череды и других наших еще ой как далеко.
… Ну так вот. Когда я понял, что встречи с „мессером“ мне не избежать и что в любой миг, сделав какой-нибудь неправильный маневр, я стану жертвой этого „мессера“, в этот самый миг и блеснула та спасительная для меня „молния“, благодаря которой я не лежу под обломками своего дорогого „ишачка“, а пишу тебе письмо. И знаешь, кого я увидел и услышал в блеске этой молнии? Нашего друга — командира отряда Андрея Денисова, „Денисио“, воевавшего в Испании против испанских, итальянских и немецких летчиков-фашистов. Да, именно его голос я услыхал, хотя Денисио и находился от меня за тысячи километров. „Там, в Испании, — говорил Денисио, — я хорошо изучил повадки этой волчьей стаи. Самое главное — не уходить от лобовой атаки. Ни при каких обстоятельствах. У тех, кто дерется за свободу, нервы в тысячу раз крепче, чем у них. Это — закон природы. (Он так и говорил: „это — закон природы“!). Рано или поздно фашист не выдержит и отвернет. И тогда бей!“
Спасибо тебе, дорогой Денисио, ты спас мне жизнь в этом бою и, думаю, спасешь еще не раз. Я поступил именно так, как ты поступал в Испании. Я летел в лоб „мессеру“ и никуда не отворачивал. И не пытался сделать какой-нибудь маневр, хотя, чего уж тут скрывать, мурашки бегают по телу, ладони вспотели, все тело — как пружина, готовая вот-вот лопнуть.
Ты, конечно, спросишь: „Значит, все-таки страшно?“ И я отвечу: „Да. Страшно…“ Откуда я знаю, какие нервы у немецкого летчика, тоже никуда не сворачивающего и, по всему видно, не собирающегося маневрировать? Может ведь так быть, что фашист давно уже набил руку на лобовых атаках и сейчас ожидает, когда я дрогну и отверну.
Да, дорогая Полинка, страшно вот с такой бешеной скоростью нестись навстречу своей смерти. Ведь пройдет несколько мгновений и, если никто из нас не уступит — мы столкнемся, мы, наверно, не успеем даже осознать, что от нас ничего не останется.
Но страх и трусость, Полинка, это совсем разные вещи. Думаешь, когда солдат в бою закрывает собой командира, он не испытывает страха? Или когда летчик, самолет которого подбит над территорией противника, уверен, что до своих ему не дотянуть, ищет солидную цель, чтобы сбросить на нее свою машину и погибнуть, не чувствует, как все в нем кричит от боли, потому что ему не хочется умирать?
Читать дальше