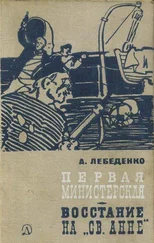И спала пелена с моих глаз. И уже не страх я чувствовал в своем сердчишке, а стыд, такой стыд, Полинка какого никогда в своей жизни не чувствовал. Он будто пронзил меня насквозь, и если б это было на земле, я, наверно, заплакал бы от этого стыда. Но тут же во мне вспыхнула злость, не знаю даже, на кого больше: на себя за то, что поддался страху, или на немцев, из-за которых и повел себя, как сопливый мальчишка. А Череда уже охрипшим голосом кричит: «Ивлев, куда ты делся, засранец?!»
Его машину я увидал метрах в шестидесяти от себя и тогда же увидал этого «мессера» с двумя черепами. Череда пристроился ему в хвост, но огня не открывал, хотел, наверно, подойти еще ближе, чтобы ударить наверняка. А в хвост Череде тоже пристроился «мессер», он-то строчил по Череде без передышки, и я подумал: срубит, срубит, сволочь, моего ведущего, Череда и оглянуться не успеет.
По мне, кажется, тоже уже строчили, слышал, ощущал, как мой «ишачок» вздрагивает, будто больно ему было от ран, которые наносили ему пули. Но теперь мне было наплевать на все, я рвался к Миколе, я решил сам подставить себя под огонь, лишь бы прикрыть Череду… И поверь мне, Полинка, даже короткая мысль, что смерть моя рядом, не мелькнула в моей голове. Да и думать об этом времени совсем не было. Рванул я свою машину наперерез тому, кто гнался за Чередой, открыл по нему огонь — и тот отвернул, потом пошел на петлю, а Микола… Здорово это получилось у него, Полинка. Врезал он по «черепам» так, что и дыму от них не осталось — один клуб огня, и все.
Потом мы дрались еще минут двадцать, и вот только теперь, вспоминая этот бой, понимаю, что дрался лично я почти безрассудно, не я, Федор Ивлев, сидел в своем истребителе, а какой-то вконец ошалелый человек, мало что соображающий, и если бы не Микола Череда и другие летчики (они, наверно, понимали, что со мной происходит. Может быть, они тоже вспоминали свои первые боевые вылеты и знали, что это такое такое), не упускавшие меня из виду, вряд ли я вернулся бы на землю.
И, к счастью на этот раз вернулись все, срубив двух «мессеров»: одного — Микола Череда, другого — двое других летчиков.
И вот что интересно, Полинка: лишь только мы зарулили на стоянку, в свои капониры, как к моему «ишачку» подошел командир эскадрильи Булатов и все семь дравшихся в этом бою летчиков. Сбросив парашют, я стоял облокотившись о крыло машины, а мой авиатехник Семен Медведев ходил вокруг истребителя и вслух, громко, чтобы все слышали, считал пробоины в фюзеляже и в хвостовом оперении: «Тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать…»
А я все стоял, облокотившись о крыло машины, и ничего во мне сейчас не было, кроме непонятной вялости во всем теле, будто все из меня вытряхнули и осталась от меня одна оболочка: толкни меня — я упаду и буду валяться на земле с закрытыми глазами, ни о чем не думая, ничего не вспоминая. Только в ушах у меня все хрипел и хрипел голос Миколы Череды, голос, который будто проходил через мой мозг: «Федор, прикрой, мать твою так!.. Ивлев, куда ты делся, засранец?!»
А потом я так же вяло, будто не о себе, подумал: «Вот сейчас Микола начнет рассказывать, как я в первую же минуту боя потерял его и как затем ошалело метался туда-сюда, ничего, видно, не соображая, и никакой помощи никому от меня не было. Может быть, думал я, капитан Булатов ничего и не скажет, да и другие летчики промолчат, только с презрением поглядят на меня и разойдутся…»
Авиатехник же Семен Медведев продолжал считать:
— Двадцать одна, двадцать две, двадцать три, двадцать четыре… Двадцать четыре пробоины, товарищ командир эскадрильи. Придется латать…
И вот совсем для меня неожиданно Микола Череда подходит ко мне, обнимает за плечи и говорит:
— Спасибо тебе, Федор. Видел, как ты подставил себя под удар, прикрывая мой «ишачок». Вот они, двадцать четыре пробоины… Не сделай ты этого, не стоять бы сейчас на травушке-муравушке Миколе Череде.
А потом и капитан Булатов подошел и пожал мне руку, толкнул меня по-дружески плечом, улыбнулся.
— Так держать, лейтенант Ивлев. Так держать до тех пор, пока в небе не останется ни одного фашиста.
Мне бы что-то проговорить в ответ, поблагодарить всех этих славных, людей, а я не мог выдавить из себя ни слова, потому что слезы навертывались на глаза, а что это за слезы, ты милая Полинка, конечно, понимаешь…
Вот так закончился мой первый бой, а потом пошло и пошло, вылеты почти каждый день и даже не по одному разу на день, а по два и даже по три — четыре. Потому что немцы все наглеют и наглеют, и мы просто не можем не ввязываться в драки — нас ведь пока значительно меньше, чем их, хотя и лупим мы этих сволочей как надо, да только и они в долгу не остаются.
Читать дальше