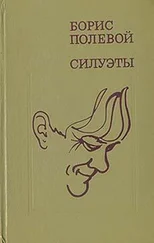Не найдя в немецком языке слова «выкормыш», я перевела его как «воспитанник», и, к моему удивлению, этот самодовольный тупица неожиданно просиял. Он налился важностью и сказал: это так, лейтенант правильно отметил, он действительно старается подражать фюреру. Он сказал, что теперь, несомненно, они найдут общий язык — два героя, два солдата. И он спросил: пусть господин лейтенант, который только что показал, что он куда разумнее других своих соотечественников, пусть он скажет, почему так безнадёжно упрямы эти русские, почему, отступая, они сами жгут свои дома, почему за линией фронта не желают покоряться и продолжают борьбу, навлекая на себя репрессии и кары, почему предпочитают умирать, не раскрывая карт, хотя и дураку ясно, что война ими проиграна. Почему?
Этот самодовольный болван, услышав от лётчика, что он достойный ученик Гитлера, решил, что тот сказал ему комплимент и идёт на все условия. Генерал расфилософствовался и явно рисовался перед моим шефом, перед майором, которых считал посрамлёнными.
Я сейчас же перевела лётчику вопрос.
«Балда! — отчеканил он. — Потому, что мы — советские люди, не им чета».
Если бы вы видели его в эту минуту! От приподнялся на локте, его брови, особенно чёрные от того, что они смотрели из рамки бинтов, нахмурились, глаза сверкали.
Генерал взбесился. Он вскочил, скверно выругался и произнёс поговорку, соответствующую примерно нашей: «Сколько волка ни корми, он всё в лес смотрит». Он сказал, что лейтенант — глупое, тупое животное, что он чёрной неблагодарностью платит за такое рыцарское обращение, за такой уход.
«Я думал, что этот уход полагается по международному соглашению об уходе за ранеными», — ответил лейтенант.
«Соглашение! Ха-ха, станем мы тратить немецкие бинты на русских свиней, от которых не имеем ничего, кроме вони!»
Генерал кричал, топал ногами. Мой шеф, понимая, что это лишает их последней надежды хоть что-нибудь выудить, почтительно и настойчиво пытался его удерживать. Но где тут!
Когда я перевела фразу генерала, раненый лётчик вскочил на носилках, кулаками разбил гипс на ногах и стал срывать с головы, с шеи марлевые повязки. На лицо ему хлынула кровь.
«Не надо мне фашистского милосердия!» — бормотал он.
«Грязные фанатики, варвары, страна северных папуасов!» — кричал генерал.
И вдруг, это было мгновенно, он отшатнулся, зажимая лицо, — лейтенант плюнул ему в глаза кровавой слюной.
Они все трое набросились на него и стали бить ногами по чему попало. Раненый, рыча, отбивался, он был ещё крепок, ярость удесятерила его силы. Сидя на носилках, весь налитый кровью, он хлестал их по лицам, и они никак не могли схватить его.
Я стояла тут, рядом. Вы понимаете, я видела, как эти звери терзают такого светлого, гордого человека, самого лучшего из людей, каких я встречала за свою жизнь. Воем существом моим рвалась я броситься ему на помощь, и если не помочь, то хоть умереть вместе с ним! Я не боялась смерти. Нет! Но я была на посту и знала, что теперь, накануне нашего наступления, моя работа здесь особенно нужна и я не имею права выдать себя. Выдать себя, погибнуть, защищая его, было бы для меня изменой Родине, ударом по нашему делу. Что бы ни произошло, нужно было, чтобы информация поступила, чтобы вы тут, в армии, знали, что готовят против вас, что замышляют немцы.
И я совершила в этот день свой единственный настоящий подвиг. Я даже не крикнула, я сидела, вцепившись в кресло так, что ногти у меня потом посинели, и старалась запомнить всё. На моих глазах они забили его до смерти. Этот незнакомый мне чудесный человек погиб, отбиваясь. Вся камера была забрызгана его кровью. Но и я в этот час оказалась достойной его, я не выдала себя. И как мне потом ни было трудно, я продолжала своё дело до того дня и часа, пока вы не взяли Харькова…
Она вся тряслась, эта тонкая девушка, с нежной внешностью, с нервами закалённого бойца, с волей старого солдата.
— Я даже не знаю его имени — и теперь не знаю, хотя никогда не забуду его. Он всегда будет передо мной, такой сильный, мужественный, прекрасный!..
И вдруг, закрыв лицо руками, она зарыдала, вся сотрясаясь и трепеща, как молодая берёзка в яростных порывах осеннего ветра. Высокая причёска её рассыпалась, шпильки попадали на землю, каштановые волнистые волосы раскатились по грубому сукну шинели, и среди них стала видна одна широкая, совершенно седая прядь.
Потом, как-то сразу, девушка успокоилась. Лицо её, мокрое от слёз, стало твёрдым, даже жёстким, она вытерла глаза, собрала и заколола волосы и усмехнулась:
Читать дальше