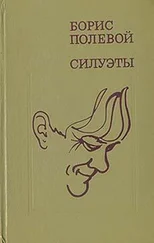А тут хвать — напасть: стал фриц опять народ в Германию забирать. Летось-то угонял по выбору, кто помоложе да покрепче, а теперь без разбору, кто попадёт, и таких вот шурупчиков, как Серёга почтенный, и стариков старых — песок сыплется. Что только было! Пошли облавы, да какие! Ведь с собаками за людьми гонялись, слово даю! Оцепят солдатами улицу — и прочёс: кого поймают, сейчас под конвой, на вокзал, в вагоны. Чтобы дать проститься — где там! Слово сказать не давали! Так, с ходу, и увозили людей, кто в чём был.
Мы с Серёгой в яму свою засели, так целые дни из неё и не вылезали, разве за нуждой. Она крапивой заросла, лопухом. Ну, думаем, чёрта с два ты нас здесь найдёшь! А завтра афидерзейн — и уцелели братья Волковы. А ведь нашли! Должно быть, этот колченогий наш квартальный на след навёл. Вот кого задавить-то надо, как только Орёл возьмём! Верно. Утром мы ещё спим в своей яме, а в неё уже немец лезет. Толкает нас прикладом: ком, ком. Вот тебе и афидерзейн! Ну, пошли, что будешь делать! Притащил он нас в лагерь за проволоку. Человек пятьсот уж эшелона ждут. Обежали мы с Серёгой кругом вдоль проволоки — частая, в два ряда. Шагов через сто вышка с часовым, у часового пулемёт. Вот и убеги тут! Чуть к проволоке подойдёшь — та-та-та, и готово. Вот мы с Серёгой и заныли, и провыли мы с ним весь день. А что делать? Ну, что?
Утром по лагерю слух: несколько девчат самоубились. Жилы бритвой себе порезали, кровью истекли. Народ пуще стал волноваться, дети ревут, мужики ругаются. Я было подумал: «Может быть, верно: этак вот бритвой чик, и всё». А потом думаю: «Шалишь, фриц, наши-то, видать, совсем близко, может, удрать удастся!» И всё думаю: «Как, как?» Тут вот у братишки моего, у Серёги распрекрасного, и мелькнуло… Костры нам днём разрешили палить: воду кипятить на чай. Мы тут к одним присуседились, у них кое-чего поесть было, щепок им насбирали. Серёга разводил, разводил костёр да руку себе и обжёг. Бежит ко мне, а я поодаль сидел, и говорит: инвалид я, немцам теперь я не нужен. А ожог — сущий пустяк. Обругал я его и вдруг думаю: «А верно, если руку сжечь?»
Ладно! Мне это дело понравилось. Только думаю, надо скорее, пока эшелон не подошёл. Попросил я девчат вокруг костра сбиться потеснее, нас загородить да песню — запеть, чтоб, если заору, фриц не услышал. И сунул руку в самые угли. Сунул и сейчас же назад. Чуть не заорал. Ух, больно! Поглядел: только кожу и опалил. Думаю: «Неужели духу нехватит, неужели заслабит?» И вспомнил я тут всё: и Нюшу, и фрицевы капли, и маму с Женечкой. И после всего этого к фрицу ехать! А это они видали? Ни в жисть. И опять руку в костёр сунул и держу, реву и держу. Палёным пахнуло, держу, а сам думаю: «Не поеду, не поеду, не поеду к вам, нате, выкусите!» И держал, пока в глазах не позеленело. Вот, а этот Серёга почтенный, тот, конечно, сдрейфил.
— Ничего я не сдрейфил, — налившись краской, говорит Серёжа.
— Не сдрейфил, рассказывай! Как заплачет: «Не могу, — говорит, — боюсь! Ты, — говорит, — меня силком, силком. Рот зажми, чтоб я не орал, и силком!..» А как его силком, если у меня теперь одна рука? Говорю девчатам: «Пой давай веселей!» Те поют во всё горло, а у самих слёзы, слёзы. Ну, лёг я на Серёгу, собой рот ему зажал, руку его в костёр вытянул и подержал.
Так вот и стали мы, братья Волковы, инвалидами.
Перед погрузкой поглядели на нас какие-то их не то офицеры, не то полицаи, из эсэсманов тоже. Залопотали чего-то: «Хенд, хенд», потом дали нам по затылку: дескать, ступайте, куда хотите, на кой вы нам — инвалиды. А мы только того и ждали. Ауфидерзейн!
Ну и пошли мы как раз на этот пушечный гром. Слыхать его уже стало. Идём, и руки нам вроде пропуска. Нам немец — «хальт», а мы ему руку в нос. Гутен морген, дескать, калеки, по миру идём, эсен себе собираем… Так ночью к вам и дошли. Вот и всё наше дело. Которым не верится, могут руки наши посмотреть. Только вот забинтовали их нам. Не свернёт ли кто, товарищи, покурить?
Володя смолкает, прижимает больную руку к груди и раскачивает её бережно, как хворого ребёнка.
Оба брата по-взрослому жадно затягиваются заботливо зажжёнными для них папиросами. Сизый дым пластами стелется в медовой полутьме палатки.
Наступает молчание.
— В детстве учил я древнюю историю. Про Муция Сцеволу там было. Как сейчас помню: «Гай Муций был богат и знатен, природа щедро наградила его…» Не учили? Руку он в жертвенник сунул, волю свою испытывал, и мы, гимназёры, бывало поражались: вот это человек! А вот сейчас подумаешь: ну, что этот Сцевола — позёр, мелочь по сравнению хоть с этими вот братьями Волковыми, — говорит военврач, зябко потирая свои сизые, шелушащиеся руки с изъеденными ногтями. И опять тихо.
Читать дальше