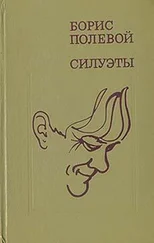И насчёт тракторного завода здешнего, это мы тоже все знали, потому хоть мы там среди дерев да камней обитаем и поля у нас не бог весть какие, однако здешние тракторы и по нашим землям ходят…
…Так вот, навели мы свою переправу, освободились, значит, и командир дозволил нам посмотреть город. Ну, мы умылись, сапоги начистили, новые подворотнички подшили, всё честь-честью, и пошли смотреть. Расчудесный город, сердце радуется, чистый, просторный. А дома, а магазины, а улицы? Ну всё, как есть всё для трудящегося человека. Отработал — и гуляй себе по бульварам, кружечку пива за столиком в саду выпей иль там, пожалуйста, в театр. Театр тут такой был: наверх взглянуть — шапка свалится. Нашли мы дом, где сталинский штаб стоял. Доска на нём каменная прибита. И хоть музей-то был закрыт, постояли мы и перед этим домом. И хотя мы сапёры, и стрелять нам, как я уже вам докладывал, приходится редко, лестно всё же, что мы такой город защищать будем, который именем Сталина зовётся, который, видишь, и сам Сталин защищал.
А день был воскресный, ясный. Ребятишки на бульварах в песке копаются. Девчата, женщины там в ярких платьях по улицам разгуливают. И вот в этот самый тихий, расчудесный воскресный день вдруг как налетят немецкие бомбардиры — штук сто, а то и больше! И ну тут город утюжить, прямо по улицам, по домам, квартал за кварталом. Одни опорожнятся, другие летят, эти разгрузятся, а уж слышно — третьи на подходе. И город этот, что так трудящегося человека радовал, мирный, покойный, праздничный, как вспыхнет вдруг, точно сухой сноп!
Самолёты наши на немцев налетают, сбивают их. Да где же: тех впятеро больше, их и сила: и бомбят, и бомбят!
Видел я однажды мальчишкой, как в сухой год тайга горела. Жуткое это дело, братцы, когда тайга горит. Уж на что звери, а и те с того пожара ума лишаются, хотите — верьте, хотите — нет. И думалось мне с тех пор, что ничего страшнее тех лесных пожаров и видеть не придётся. А вот, выходит, привелось. Не город, а гора огня. И бегут по этим самым огненным улицам, через самое пекло, к Волге женщины с ребятишками мелкими, какие-то старики ковыляют, ну, там и прочее, как говорится, мирное население. Волос на них трещит, одежда дымится, ну ад, кромешный ад.
Мы, понтонёры, в ту ночь крепко поработали. О себе забыли думать. Где там! Под бомбами, под пулемётами всю ночь за Волгу беженцев перевозили. Да разве такую силу народа сразу переправишь! Куда тут! Волга-то, она здесь вон какая! А немец всё бомбит — да по переправам, по переправам! «Мессера» евонные выберут, где народ скопился, как коршун с-под облаков, падут да из пулемётов, из пулемётов по этому мирному, как говорится, народу!..
Много я на войне уже повидал, многое, должно быть, и ещё повидать придётся, но такое навряд. И сердце у меня стало тяжелеть от злости: что же это вы делаете, сволочи? Нешто это война? Нешто можно так вот, по мирным-то жителям, по женщинам да по ребятишкам малым? По какому закону такое разрешено?
Прыгнул ко мне на паром старик лысый, весь в крови. На руках у него двое малышей — один мёртвенький, другой ещё дышит, ножонка оторвана. Старик-то, дед, значит, их, совсем обезумел, кричит туда, самолётам: «Ироды! Разве можно по младенцам?»
Потом как рухнет на палубу, как зальётся: «Внучки мои, внучки!» А потом опять немцам: «Ироды! Будьте прокляты отныне и до века!»
А то женщину принесли раненую. Чтобы не затоптали её в давке, положили мы её на корме у мотора, возле самых моих ног. Умирала она, ребёнка к себе прижимала. Уж вот вовсе, вовсе отходит, побелела вся, а всё норовит телом его своим прикрыть, потому — сверху-то стреляют…
Голос у сапёра дрогнул, сорвался. Он сделал вид, что прислушивается к возобновившейся канонаде, и, отвернувшись, украдкой смахнул рукавом слезу.
Раненая девушка, затаившись в своём углу, словно окаменела от напряжения. И, честное слово, казалось, что её большие глаза сверкают в полутьме, — такой в них был неистовый гнев.
— А то вот помню, — продолжал сапёр немного изменившимся голосом, — в самый полдень зажгли с воздуха пароход, что раненых вёз. «Композитор Бородин» назывался. Огромный пароходище, четырёхпалубный, а вспыхнул, как береста. А раненые все тяжёлые, лежачие. Горит пароход, а они ползают по палубе, из окон высовываются, на помощь зовут, стонут, немцев клянут. Тут со всех сторон рыбачки к ним на лодках кинулись, окружили пароход, стали раненых перетаскивать. Ваши-то вот, — он кивнул в сторону медицинской сестры, — ох, и молодцы девчата! Пароход — костёр, волосы, юбки у них загораются, а они знай себе раненых носят и в лодки опускают… Спасибо, тут наши самолёты налетели, разогнали этих «мессеров». Один из них вон и сейчас из воды торчит против памятника Хользунову. Это ещё тогда его подбили… Да, насмотрелись мы в эти дни.
Читать дальше