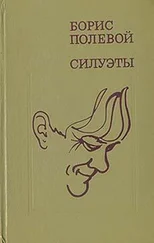Сначала Людмила подумала о ней плохо: легкомысленная девчонка, неприхотливое сорное растение, легко переживающее пересадку на самую поганую почву. Но после того, как однажды утром Катя озорным своим голосом стала бранить девчат за то, что они сидят неприбранные, не умываются, не чешутся и «разводят заразу», Людмила стала присматриваться к ней всерьёз.
— Дуры вы, дуры набитые! — кричала девушка, озорно сверкая чёрными глазами. — Вы думаете, лик человеческий потерять хорошо? Им, сволочам, фашистам-гадам, только это и нужно, чтобы мы о человеческом забыли, скотом стали, к тому они, фашисты, и гнут. А это они, псы, видели? — и она яростно показывала шиш в щель двери, за которой плыл чужой, однообразный, скучный пейзаж. — Я где-то читала, что великие наши революционеры, даже к смерти приговорённые, в тюрьме гимнастику делали, чтобы силу сохранить.
И сама она, должно быть, для того, чтобы раскачать подруг, тоже стала делать в вагоне гимнастику, делала её упорно, под стук колёс, и девушки с удивлением, даже с уважительным страхом смотрели на неё.
— А стоит ли беречь силу? Ведь на врагов работать придётся? — спросила Людмила, желая окончательно её проверить.
Черноглазая девушка вся вспыхнула.
— Я? На этих сволочей работать? На этих подонков?.. С моей работы они кровавой слезой заплачут. — И, приблизив смуглое лицо к Людмиле, жарко дыша на неё, зашептала: — Зачем мне сила? Без силы разве убежишь! Сгниёшь в этом погребе без силы. Они только и хотят, чтобы мы силу потеряли.
— Тише, — Людмила осторожно зажала ей рот рукой.
— А что тише? Пусть слушают. Никого не боюсь.
— Вот это-то и плохо: силу бережёшь, а голову не бережёшь.
Девушки внимательно посмотрели друг на дружку, потом улыбнулись, потом расхохотались. С тех пор их связывала та прочная суровая дружба, какая возникает между людьми в лихие дни, пред лицом тяжёлых испытаний.
Эшелон прибыл в Крайцбург, где находился тогда всесилезский рынок рабов, которых ведомство бригаденфюрера войск СС Заукеля свозило сюда со всей Европы. Под конвоем девушек выгнали из вагонов и отвели за город, в огромное здание пустого ангара. Здесь их выстроили рядами и запретили садиться. Появилась толпа людей, показавшихся девушкам очень похожими друг на друга: коренастых, красномордых, с квадратными лицами, с бычьими затылками, одетых тоже на один манер — в штаны гольф, в охотничьи куртки и зелёные шляпы с тетеревиными перышками. Девушки догадались, что это были силезские помещики из Одерской долины. Были среди них и женщины, большеногие, неуклюжие, массивные.
Идя между рядами невольниц, женщины брезгливо подбирали юбки и зажимали носы платками. Всю эту группу сопровождал чиновник в чёрной фуражке с высокой тульей.
Помещики хозяйственно оглядывали девушек, заставляли их поворачиваться, щупали крепость мускулов, а одна тощая, желтолицая, злая баба, в мужских брюках, со стэком, даже залезала во рты рукой, проверяя, целы ли зубы и не тронуты ли дёсны цынгой.
Подруги стояли рядом.
— Как скотину на базаре… Ах, гады, ах подонки! — шептала Катя.
Она была бледна, её всю трясло, она тяжело дышала. Кровь сочилась из крепко закушенной губы. Казалось, вот-вот её хватит припадок. Людмила тихонько погладила её холодную, безжизненно висевшую руку. Вся эта процедура была ей уже знакома. О, она-то уже знала, что такое фашизм! И ненависть её дошла до такой степени, что она перестала считать их за людей. И вот теперь, спокойная, холодная, как статуя, стояла она, гордо вскинув голову и презрительно глядя на приближавшуюся толпу.
У отобранных девушек помещики бесцеремонно поднимали рукава, смотрели выжженные ляписом номера, называли их чиновнику. Тот записывал в блокнот, и два старых колченогих солдата-фольксштурмиста, в мундирах, болтавшихся на их тощих телах, уводили отобранных в конец ангара и расставляли у стен, возле бланка с фамилией помещика.
— Мне не стерпеть., Если он до меня дотронется, я вцеплюсь ему в глаза, я ему ногой в брюхо заеду, — шептала Катя, и капли крови из прокушенной губы текли по её круглому девичьему подбородку и чёрными кружками отпечатывались на бетонном полу.
— Прикосновение гадины омерзительно, но оскорбить человека не может, — холодно ответила Людмила.
— Смотрите, как они стоят! Принцессы… Большевички, наверно, — сказал краснолицый толстяк с рассечённой бровью, приближаясь к подругам.
Людмила поняла его слова. Толстяк оглядел её с головы до ног, довольно хмыкнул и протянул короткую веснущатую, лохматую от рыжего пуха руку, чтобы пощупать её мускулы, но встретился с таким взглядом узких серых глаз, что рука невольно отдёрнулась, и он затерялся в толпе, бормоча:
Читать дальше