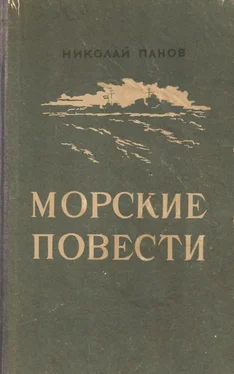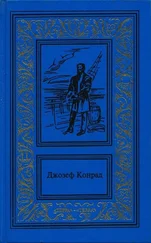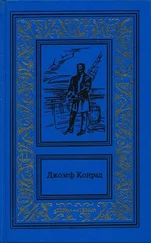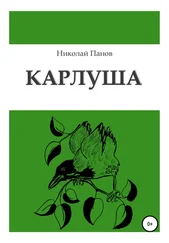Но германец затих, не стреляет, хотя подходит все ближе.
И тут крикнул кто-то: «Командир убит!» — И другой голос тут же: «Флаг! Флаг!»
Взглянул я на гафель и обомлел. Осколком перебило фал, флаг наш больше по ветру не вьется. Потому, стало быть, и не стреляли фашисты, что думали: «Туман» пощады запросил.
— И что же? — не удержался Фролов. Его захватил рассказ. Он плотно придвинулся к Агееву, всматривался в его смутно белеющее в темноте лицо.
— Что? — строго переспросил боцман. — А вот что! Не успел лейтенант команду подать: «Поднять флаг!» — как уже несколько матросов у гафеля были.
Рулевого Семенова в руку ранило. «Помоги, Агеев! — говорит он мне сквозь зубы и тянет оборванный фал. — Видишь ты, фал травить двумя руками нужно, а у меня одна сплоховала…»
И радист Блинов тут же у гафеля — помогает связывать фал.
Мигом подняли мы флаг, вновь он забился под ветром. И опять снаряды вокруг засвистели.
— А как наши комендоры стреляли? — вновь не удержался Фролов.
— Этого не скажу, — бросил нетерпеливо Агеев. — В тот час все передо мной, как при шторме, ходило. Первый ведь мой бой был… Потом сказывали ребята: у кормовой пушки прямым попаданьем оторвало ствол, из носовой стрелять трудно было: сектор видимости не позволял. Так что немец нас бил, как хотел: и бронебойными и шрапнелью. И комиссар погиб. Вижу: лежит он на палубе, у боевой рубки, шинель стала лохматой, что твоя бурка, — так ее осколками порвало.
И заслужил в этом бою наш корабль себе вечную славу. Трудно сказать, кто из экипажа больше отличился, — все героями были. В трюме, в угольном бункере, пробоина была, — так старшина второй статьи Годунов ее собственной спиной зажал, пока пластырь не завели. И флаг все-таки над кораблем развевался!
Перед смертью командир дал приказ: секретные документы уничтожить.
Вбежали мы в штурманскую рубку, а из трещины в переборке высокое пламя бьет. Рвем карты, в пламя бросаем.
И очень запомнилось, что рулевой Семенов сказал: «Пелевин Сашка помер… Шибко ранен был, я ему фланелевку разрезал, перевязал его. А он весь побелел, обескровел. Шепчет: «Костя, попить дай…» Я в камбуз, за водой, а там все разбито… Бросился в кают-компанию… От графина одни осколки блестят… Возвратился к другу. «Нет нигде воды, Саша…» Отвернулся он и помер… Такое дело — на воде находимся, а дружку стакана воды не достал…»
И, как сказал это Семенов, вспомнил я, что нигде Никонова не видно. Уже давал крен «Туман», трудно было на палубе стоять. Смотрю: матросы шлюпки спускают… Бегу в машинное отделение…
Здесь электричества нет, под ногами море плещется. Машинисты, по колено в воде, еще борются за жизнь корабля… Никонова меж них нет… Смотрю — он, прислонясь к трубопроводу, лежит, и вода ему под горло подходит.
«Петя!» — кричу. Открыл он глаза… Жив! Подхватил его, еле взобрался по трапу. «Туман» уже совсем на бок лег.
«Ты, дружба, со мной не возись. Спасайся сам…» — шепчет Петя. «Мы еще, Петр Иванович, поживем, повоюем», — говорю ему и несу к шлюпкам.
Но только хотел друга в шестерку спустить, — лопнул рядом снаряд; меня оглушило, Никонов у меня на руках обвис. Раздробило ему голову осколком. Так я его на палубе и оставил…
И только отошли наши шлюпки от корабля, — длинный темный нос «Тумана» стал из воды подниматься. Никак он потонуть не хотел. Уже корма целиком в воду ушла, в пробоины волны рвутся, кто в шлюпки сесть не успел, прямо в воду бросается, а корабль наш все форштевнем в небо смотрит, полукруг им описывает. И потом вскипел водоворот — исчез наш «Туман». Я даже глаза зажмурил, такая грусть охватила.
А когда открыл глаза, вижу: по морю только шлюпки плывут, матросы за них цепляются, и кругом опять снарядные всплески — эсминцы и по шлюпкам стреляют. И поклялись мы друг другу — лучше всем в воду попрыгать и потонуть, а в плен не сдаваться…
Но загудели тут от берега наши самолеты, немцы, понятно, наутек. Пришли мы в базу живыми. И осталась мне только вот эта память о друге…
Агеев шевельнулся, и на ладонь Фролова легла маленькая легкая трубка, Она была теплой наощупь, боцман только что вынул ее из кармана или, может быть, все время держал в руках. Как живое спящее существо, лежала она на ладони сигнальщика.
— Эту трубку, — прозвучал тихий голос боцмана, — и выточил перед смертью Петя Никонов. Не помню, как она у меня очутилась. Верно, когда заиграли тревогу, я сам ее в карман сунул. Пришли в базу, гляжу — она.
И дал я в тот день великую клятву. Поклялся перед матросами в полуэкипаже не курить, покамест не убью шестьдесят врагов! Втрое больше, чем погибло на «Тумане» друзей-моряков. Проведи-ка пальцем по черенку.
Читать дальше