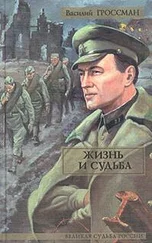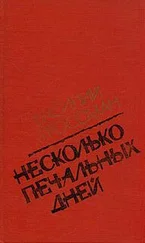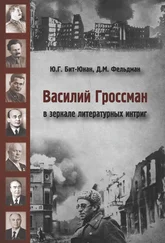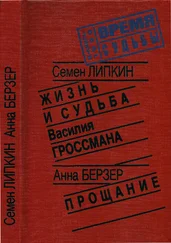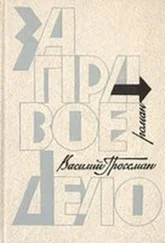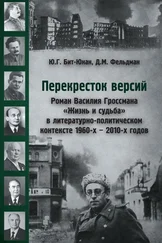Перепады судьбы обнаруживают в Штруме и стойкость, и понятную человеческую слабость, и высокую духовную твердость. На волне успеха Штрум ощутил, как что-то менялось в нем, потакая тщеславию, но он же и сумел выстоять в трудную минуту, когда на собрании ждали его покаяния. А как трудно решиться на такой поступок в одиночестве, не в боевом слитном порыве! ‹…›
В немалой мере близок Гроссману и Крымов — своего рода «революционная закваска» автора с его верой в революционные идеалы и с его болью при виде многого, что происходило в стране. То, до чего «дозревает» Крымов в тюремной камере, подступало к автору в его трудных раздумьях над трансформацией революционных идеалов.
В Крымове преломилось и движение всей прозы Гроссмана. От чистого и открытого восхищения самоотверженностью комиссара Вавиловой («В городе Бердичеве»), парторга шахты Лунина («Глюкауф»), батальонного комиссара Богарева («Народ бессмертен») он приходит к пониманию того, насколько разными оказались затем Крымов и Гетманов, Мостовской и Осипов, Пивоваров и Пряхин. Комиссары для беспартийного Гроссмана по-прежнему — революционная совесть народа, потому с них больше и спрос.
И финалы романной судьбы Штрума и Крымова в своей глубинной сущности сходны. Крымов так и остался комиссаром в высоком гроссмановском понимании, ничем не поступился, ни от чего не отступился. А Штрум, так долго державшийся, дрогнул на какое-то мгновенье, подписал подлое письмо и потом пристрастно, непрощающе судит себя. И этот миг слабодушия, за который его невольно казнят близкие люди своей прежней верой в него, будет, мы верим, искуплен им, как будет искуплен Крымовым его грех с донесением о Грекове. ‹…›
В романе «За правое дело», занимая чуть ли не ведущее место среди прочих героев, комиссар Крымов был все-таки ‹…› героем «сконструированным». ‹…›
Таким ‹…› выступает Крымов почти во всех эпизодах — и по дороге в Москву, и в чтении фронтовых сводок, и в раздумьях об увиденном. То ли чувство художественной меры несколько изменило автору, то ли под давлением перестраховочной редакторской критики он все выправлял да выправлял «образ партийного руководителя в армии».‹…› Но в «Жизни и судьбе» ‹…› автор ‹…› показывал, насколько они все-таки были отторжены своими словесами и догмами от народа: война заставила их пересмотреть многие схоластические постулаты, рожденные в кабинетных бдениях и отгораживавшие от жизни реальной. ‹…›
Попав в лубянский застенок, Крымов начинает судить себя, вспоминая, как жестоко и несправедливо отправлял красноармейцев в штрафные батальоны и на расстрел по донесениям так называемых политинформаторов за какие-то неосторожные фразы, скорее всего случайные или препарированные самими информаторами. Вот и Грекова он не пожалел, погубил его посмертную славу…
Но дело даже не столько в личном прозрении Крымова, сколько в общественном смысле его «парадоксальной» судьбы, отразившей судьбу революционных идеалов.
Неспроста так обильно представлены в дилогии правоверные коммунисты — Мостовской, Крымов, Абарчук, слывший еще в студенческие годы «факультетским Робеспьером». Для них были бесспорными истинами броские фразы о том, что революция есть насилие большинства над меньшинством (до какой степени насилие и над каким меньшинством — не уточнялось), что по мере строительства социализма возрастает ожесточение классовой борьбы, что страна находится в капиталистическом окружении, старающемся любыми мерами взорвать советский строй изнутри. Эти постулаты оправдывали в глазах многих ортодоксальных коммунистов жестокость, террор, уничтожение целых социальных сословий — не только прямых противников, а потенциально «чуждых» сословий и групп. ‹…›
В психологии Мостовского, Абарчука, Крымова искал писатель ответы на поддержку действий Сталина в партии, пока костер репрессий еще только разгорался и пламя незаметно подбиралось к ним самим. Они не были фанатиками казарменного коммунизма, они еще чтили личность, пока она жила в согласии с их воззрениями. Не были они и Гетмановыми, своекорыстно пользовавшимися властью ради благ и привилегий. И уж тем более дикими были для них фанатичные прорицания Каценеленбогена о стирании граней между лагерной и запроволочной жизнью ради торжества революционного гуманизма, одолевшего «первобытный, пещерный принцип личной свободы». Но благодаря сжигающей их вере в безусловную правоту революционного насилия, их пламенной готовности к сегодняшним жертвам во имя светлого завтра, их наивной вере в целесообразность массовых «чисток», физического уничтожения других классов и прослоек стало возможным для Сталина нагнетать террор. И вот теперь об этом размышляют правоверные коммунисты: один в немецком концлагере, другой во внутренней тюрьме Лубянки, третий в сибирском лагере. А выжили и преуспели Неудобнов, Гетманов, Пряхин. Таков ответ Гроссмана на то, почему революция могла породить Сталина. ‹…›
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу