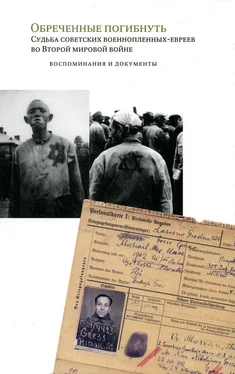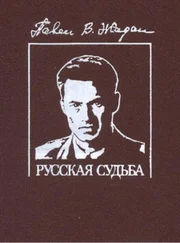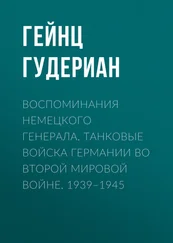Я начал робко возражать. Куда мне в таком виде: в драной гимнастерке, в моих огромных башмаках в Большой театр. Но не тут-то было. Лера ничего не желала принимать во внимание. Она тут же вытащила Мишенькин черный костюм, его же рубашку и галстук. Нашлись и туфли. Делать было нечего. Я переоделся. Посмотрел в зеркало и не поверил глазам своим. Я не узнал себя. Ведь целых пять лет я ходил в лохмотьях. Одевал на себя все, что попадалось под руку – лишь бы было тепло. А тут стоит франт в черном костюме, при галстуке. Не сон ли это? Кругом все смеялись. Лера весело щебетала. А у меня на глазах были слезы. Плакали и мои родители.
И вот наступил вечер. Большой театр. Ярко сверкают величественные люстры. Сияют золотом партер и ярусы. Кругом нарядно одетая публика. Слышен оживленный гомон, женский смех. Все это настолько необычно и контрастно, что кружится голова. Мысленно в голове проносится тот ад, в котором я жил все эти страшные годы. Голод, холод, вши, ночлег на втором ярусе нар. Подстилка – лохмотья своей одежды. Одеяло – такие же лохмотья. Вечное недоедание, вплоть до собирания очисток. Работа всякая: тяжелая, грязная, даже чистка уборных и помоек. Издевательства охранников и начальства. Работа под землей в шахте при постоянной угрозе обвала. Откопанный друзьями из-под завала заводской трубы… Да разве можно забыть весь этот кошмар.
И тут этот сверкающий зал… Конечно, трудно сейчас словами передать мое тогдашнее состояние.
Но вот гаснет свет. Мы сидим где-то в первых рядах партера. Давали «Евгения Онегина». Звучит чарующая музыка Чайковского (я всегда любил эту музыку). Дивные декорации, шикарная одежда актеров… Как недоступно было все это для меня все эти годы. С неослабным вниманием я слежу за тем, что происходит на сцене. Вот сцена дуэли. Замертво падает Ленский. Очень трогательно. Но все это так изящно и даже смерть такая… красивая. И в памяти возникают другие картины и другие смерти.
1942 г. После полугодового «лечения» в госпитале для пленных я подлежу выписке и отправке на лесоповал. Стоит суровая зима. При моем здоровье и моей одежде это верная гибель. И опять помогли добрые люди. Меня пожалела очень добрая финская старшая сестра. Она оставила меня работать санитаром в госпитале. Это, конечно, не мед, а адский труд. Но зато в тепле и под крышей. Надо было обслуживать раненых, умирающих советских солдат и офицеров (выносить горшки, мыть полы и пр.). Но самое страшное – каждое утро выносить трупы. А умирали десятками от голодного поноса. Каждое утро в коридоре лежали вымазанные с головы до ног, страшные, пахнущие трупы-скелеты. Их надо было раздеть, обмыть, погрузить на носилки и вынести в сарай. Там уже лежали кучи таких же трупов с открытыми глазами и немым вопросом: «За что?». (Не понимаю сейчас, как я мог все это выдержать). Затем ежедневно их увозили грузовиками и хоронили навалом в общих могилах. Все это пронеслось у меня в голове, когда увидел и услышал эту красивую, изящную смерть Ленского.
…А пока заливаются скрипки. Звучат чудесные арии, идет изумительное представление. Сейчас, когда после этого прошло уже много-много лет, трудно словами описать те чувства, обуревавшие меня тогда, после окончания спектакля. Но, как мне кажется теперь, чувства эти можно выразить двумя словами: потрясение и благодарность. Потрясение от всего увиденного и услышанного. От того резкого контраста, который так сильно отложился в душе моей. Благодарность Лере за это испытанное потрясение, за те незабываемые ощущения, которые я тогда испытал.
Такова история, сохранившаяся в памяти от тех первых дней дома. Так объясняется странная запись на обложке путеводителя по Москве.
POstscriptum
Некоторое время после приезда в Царицыно я приходил в себя. Ничего не делал. Был безработным. Но долго это не могло продолжаться. И начались мытарства с устройством на работу. Везде требовались учителя. Но как только в анкете прочитывали пункт о том, что я был в плену, место оказывалось уже занятым. Ведь плен считался предательством. Можно было, конечно, солгать, но этого я сделать не мог. Наконец меня взяли в Подольскую вечернюю школу. Это уже было какое-то облегчение. Но не тут-то было. Изучив, видимо, досконально мою биографию, меня оттуда попросили уйти через пару недель. И опять я без работы. Тогда в дело включился Шур. Его знакомый устроил меня в железнодорожное ремесленное училище. (Видимо, мою анкету не очень внимательно читали.) Там я проработал несколько лет и был на хорошем счету. Но и там обнаружили, что в их среде находится «враг». Под предлогом реорганизации училища меня попросили оттуда уйти. И опять унизительные поиски работы. В это время я уже был женат, и появилась дочь Элла. Это еще сильней угнетало, ведь надо кормить семью. Наконец я решился на подлог. В анкете я скрыл свое пребывание в плену. Тогда меня взяли учителем в школу при костнотуберкулезном санатории. Это довольно сложная работа – один учитель чуть ли не по всем предметам. Но я очень жалел этих детей, и мне с ними было хорошо. Но и это продолжалось недолго. Через несколько лет школа ликвидировалась, и опять – хождение по мукам. Но уже с чистой анкетой. Меня приняли в настоящую десятилетку – школу № 735: сразу преподавать в 9-10-х классах. Было очень страшно и трудно, но я выдержал. В этой школе я проработал 22 года и, как мне кажется, пользовался авторитетом и любовью учеников и учителей. За эти годы произошли два важных события: родился сын Дима и мы получили квартиру в Москве. Жить стало веселей.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу