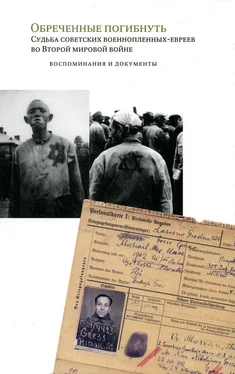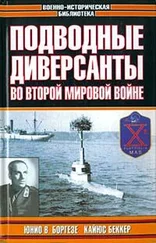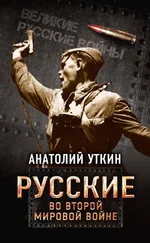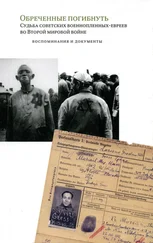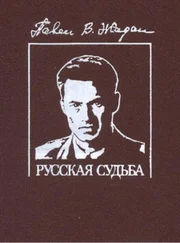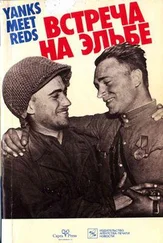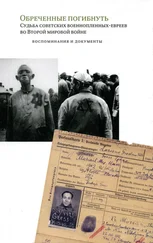Голод не тетка. Как-то мы нашли один-единственный гриб, неизвестно какой породы, честно разрезали его на шесть частей и съели сырым. В другой раз мы вышли на поляну, где было полно морошки. Это была необыкновенная удача. Мы досыта наелись, набрали в запас полные вывернутые пилотки ягод и некоторое время были счастливы. Вплоть до того момента, когда у всех случился чудовищный запор. Нас всех «заклинило» до такой степени, что Ибрагим, например, выковыривал из анального отверстия свои скудные какашки пальцами, а мы тужились до изнеможения, и у меня, в частности, даже образовались трещины и шла кровь. Кстати, именно в эти дни я впервые почувствовал боли в подреберье, не придавая, впрочем, этому никакого значения. Я думал, что боли связаны с голодом и с тем обстоятельством, что мы спали на земле, подстелив только плащ-палатки: четыре – снизу, одна – сверху и еще одна – у часового. Жестко.
Суоми – страна тысячи озер, это знает каждый. Но я бы добавил, и тысячи болот. На нашем пути постоянно попадались сырые места. Мы шли по маршруту и не обходили их, не искали сухих обходных дорог. (Да и гарантии, что они сухие, карта тоже не давала.) Надо сказать, хоть и несколько запоздало, что моя экипировка отличалась, причем в лучшую сторону (как мне казалось), от снаряжения моих товарищей. Отличалась некоторой щеголеватостью. Ремень, в котором служил еще отец, поддерживался настоящей кожаной портупеей, поэтому подсумки с автоматными рожками не очень натирали бедра. Ни лопаток, ни касок, ни противогазов у нас не было. Не было даже подсумка для гранат: они «висели» прямо на ремне. За спиной был почти пустой «сидор» и на груди автомат. Конечно, вся амуниция была активно побывавшая в употреблении, но даже в таком, несколько поношенном состоянии я себе нравился. Однако наибольшую гордость вызывали у меня мои замечательные офицерские сапоги. Не ботинки, не кирзачи, а настоящие кожаные. В них, не уставая, можно было пройти сколько угодно километров. И вот именно на эту мою гордость свалилась беда: от постоянного нахождения в сырости они развалились. Подошвы отвалились до самого каблука.
Сапоги «просили каши», и мне пришлось подвязать подошвы веревками. Естественно, ноги были все время мокрыми. Моя «молодцеватость» была сильно подмочена, во всех смыслах. Не спасал даже настоящий финский нож «пукко», неизвестно как ко мне попавший.
А голод мучил нас все больше. Этот голод настолько притупил чувство опасности, что в какой-то день мы решили при помощи гранат-лимонок (у каждого – по четыре) глушить рыбу в одном из «тысяч озер» Суоми. Но нам не повезло: гранаты не взрывались. Мы были сильно расстроены по двум причинам. Если и остальные гранаты бракованные, то мы лишаемся мощной части своего арсенала. К тому же мы не добыли ни одной рыбки, а надо было двигаться дальше по маршруту.
В июле-августе 1944 г. сводки Информбюро, которые мы иногда слушали в 23.30, были почти всегда бодрыми, а наше положение было довольно «аховым».
Нам постоянно предлагали из центра зажечь костры и получить помощь с воздуха, но эти идиотские предложения вызывали у нас только чувство бешенства. Как будто там не понимали, что в прифронтовой полосе это невозможно.
А может быть, понимали и их предложения были «посланы» просто «для галочки»?
И тут наступил третий этап чувства голода. Первый был «утолен» березовой корой, второй – «глушеной» рыбой, а третий (по нарастающей), наступивший в первых числах августа, был напрямую связан с каннибализмом.
На одной из лесных дорог мы устроили засаду и стали с нетерпением ждать появления финна. Нам хотелось, чтобы финн был непременно упитанный. К этому времени мы голодали уже десять дней, так что финн был крайне необходим.
Однако он все не шел, а наш маршрут еще не был завершен, поэтому нам пришлось, покинув засаду, идти дальше.
Много лет спустя мне рассказали, как устраивались побеги из наших, расположенных в глуши, лагерей. Три зэка сговаривались бежать, причем двое из них – рецидивисты, а третий – новичок. Этот третий предназначался на съедение и назывался «коровой». Естественно, он об этом не догадывался.
Когда маршрут был закончен, мы запросили центр, где нам лучше перейти линию фронта, так как задание выполнено, а силы – на исходе.
Ответ гласил: переходить линию фронта не надо, да и невозможно при сплошной линии обороны. Ждите нашего наступления, и вы автоматически окажетесь у своих.
Мы отлично понимали, что за три года позиционной войны линия фронта оборудована так, что без артподготовки и без техники ее преодолеть невозможно.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу