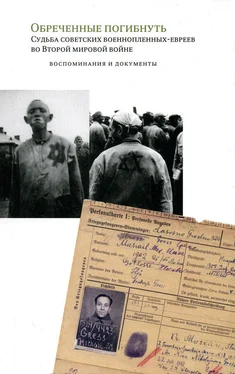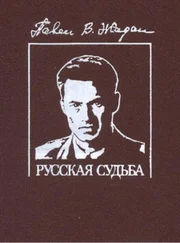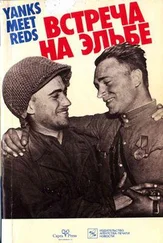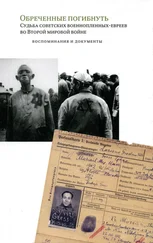Судженка: шахта № 5/7.
Это был небольшой шахтерский городок, а скорее, поселок Судженка (когда-то — Судженские копи) [66] Ныне часть г. Анжеро-Судженска в совр. Кемеровской области. — Сост.
. Для местных жителей мы именовались «репатриированные», для советской власти — «изменники Родины». Мы, конечно, понимали, что с таким гигантским потоком «возвращенцев» очень соблазнительно и легко забросить и внедрить своих людей — шпионов, поэтому неудивительно, что впредь нами должен был заниматься Смерш (Смерть шпионам).
Разумеется, мы тогда не знали <���…> о том, что почти во всем мире пленных встречали цветами. Наш прием никого не удивлял.
Нас поселили в каком-то бараке, и немедленно к нам стали приходить вербовщики. Я сбился со счета, который это был барак в моей жизни, но это был «наш» барак, советский. Впрочем, он тоже был за колючей проволокой.
Вербовщики рассказывали нам про устройство шахты, про различные шахтерские профессии, про технику безопасности и прочие специфические подробности. Ликбез длился два-три дня.
Конечно, при ручной добыче (ударение на первом слоге) угля рабочих на шахте всегда не хватало. Орудия труда: кайло, лопата и топор.
За эти несколько дней я подружился с Колей Голиковым, бывшим речным капитаном (он водил суда по реке Свирь). Он был на несколько лет старше меня. Разобравшись с профессиями шахтеров, которые не требовали специального образования (специалисты: электрики, механики и пр.), мы решили выбрать главную профессию на шахте — стать забойщиками.
Нас записали в забойщики. Обучения — никакого, научитесь по ходу дела, в работе. Инструменты: кайло для отбивки угля от пласта и топор, при помощи которого сам забойщик из деревянных лесин сооружает крепление той части выработки, которую он сам «отбил». Весь добытый уголек надо было лопатой, которая оставалась в лаве и не носилась «на-гора», отбросить на столько метров, чтобы уголь угодил в «печь» — наклонный узкий штрек, который вел к узкоколейке.
Шахта № 5/7, куда мы попали, вела разработку огромного, 15-метровой толщины (мощности), крутопадающего пласта, довольно мягкого, сыпучего спрессованного угля. Отбивать его было сравнительно легко — по структуре он был похож на слежавшийся под огромным давлением сырой песок. Но он был монолитным и сухим.
Мощный крутопадающий пласт «выбирали» горизонтальными слоями по 3 метра высотой. Эти выработки надо было закреплять и затягивать все щели «затяжками» — плоскими досками размером 1–1,5 метра. Создавался сплошной щит от стойки до стойки, через который иногда сыпался уголек, оставшийся в верхнем, выработанном слое. Так как пласт был наклонный, то верхняя лава была несколько смещена по отношению к нижней, но опасность обвала всегда присутствовала.
Лава всегда была горизонтальной, и отбитый уголек надо было «долопатить» до «печки». Из одной кучки угля мы с Колей бросали уголь в другую кучу метрах в двух, потом — в следующую, и так — до «печи». Сброшенный в печь, уголь скользил по неподвижным корытообразным рештакам вниз, в откаточный штрек, где грузился в вагонетки, отвозился к стволу и поднимался «на-гора».
Наше практическое обучение началось не с работы кайлом, а с навалоотбойки, то есть перелопачивания огромного количества угля, перемещая его до крутой печи.
В лаве работали около десяти человек: опытные забойщики, собственно и добывающие уголь, молодые ребята и девочки-навалоотбойщики, перелопачивающие за смену десятки тонн угля, и крепильщики.
Нас с Колей Голиковым поставили к большой груде угля с задачей — перекидать его в печь, находившуюся в 1,5–2 метрах.
Мы горячо взялись за лопаты и лихо начали бросать уголь в печь. Однако, к великому нашему удивлению, груда наша не уменьшалась в объеме, а увеличивалась.
Когда мы устали и решили немного передохнуть, то впервые воспользовались нашими фонариками на касках, чтобы оглядеться. В лаве было, конечно, темно. Единственные источники света — фонарики на касках. К стыду своему, мы увидели, что в нашу груду бросала уголь из более дальней кучи одна худенькая девушка. Она одна накидывала нам столько угля, что мы вдвоем не могли справиться с этой массой.
Она работала методично, спокойно, вроде бы не торопясь, но результат ее труда был удивителен. Лопатка ее сияла, как зеркало, — уголь был сухим, жестким и отшлифовал железо до блеска.
Постепенно мы познакомились с бригадой. Выяснилось, что на этой шахте работало много немцев Поволжья. В основном молодые ребята и девочки. «Нашу» девочку звали Нюра, дома она недавно окончила 10 классов. (Поголовно все немцы Поволжья были переселены в Сибирь и Казахстан.)
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу