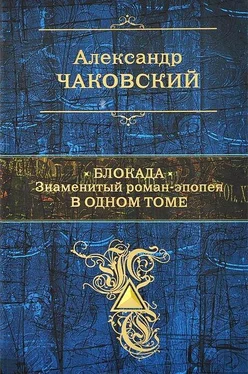«Валицкий?!» — едва не вскрикнула я. Но сдержалась. Хорошо, что в полумраке Осьминин не видел моего лица.
Видимо, он все же что-то почувствовал.
— Вы что, знали его?
— Нет, нет, откуда? — поспешно ответила я.
— Поставь коптилку на тумбочку! — неожиданно сказал Осьминин.
— Зачем?
— Поставь! — повторил он.
Я послушно взяла коптилку и переставила ее на дальний от кровати край тумбочки. А сама села за стол.
— Почему ты ушла? — спросил Осьминин.
— Я… я думала, что вы будете продолжать диктовать, — невпопад ответила я.
— Нет. На сегодня все.
— Тогда я пойду, — сказала я, вставая.
— Не забудь вклеить лист в тетрадь. И обязательно указывай даты.
— Да, да, обязательно…
Я говорила, не слыша собственных слов. Значит, все это время я работала бок о бок с человеком, который был близким другом Федора Васильевича! И не знала об этом…
Сама я не видела старика Валицкого уже давно. После последней встречи с Анатолием я и отца его старалась вычеркнуть из памяти. Понимала, что он ни при чем. Но что-то сломалось во мне. Я не могла, не хотела видеть их дом, их квартиру. Не могла заставить себя встретиться с человеком, который напоминал бы мне об Анатолии.
До сих пор мне казалось, что я могу ненавидеть только немцев. Только врагов. Сейчас я знала, что способна ненавидеть и презирать своего. Впрочем, Анатолий уже не был для меня своим. Он носил такую же форму, как те, кто защищал Ленинград, как те, кого доставляли к нам в госпиталь израненными, окровавленными. Но он не был один из них. Форма лишь прикрывала его заячье сердце, его гнилую душу. Я понимала, что, узнай Федор Васильевич о том, что произошло тогда в моей комнате за Нарвской, он возненавидел бы своего сына не меньше, чем я. И все же не могла видеть и его. Не могла…
…Я шла в темноте по заснеженному госпитальному двору, не выбирая дороги, прямо по сугробам, проваливаясь в снег по колено.
Одна, только одна мысль владела сейчас мной: надо спасти Осьминина!
Нужны медикаменты и усиленное питание. Но именно от этого он решительно отказывается. Отказывается, уже внутренне простившись с жизнью, внушив себе, что не имеет права выжить за счет раненых. И хочет, чтобы я записала течение болезни — так сказать, для науки…
Я не знала, что делать, что предпринять…
Проходя мимо одной из палат, дверь в которую была полуоткрыта, услышала знакомый неторопливый голос Пастухова. Заглянула в палату.
Пастухов сидел на табуретке у ближней к двери кровати. Я знала, кто на ней лежит, — тот самый Сергушин, у которого недавно ампутировали ногу.
Стоя в коридоре, я прислушалась.
— …а я тебе говорю, выкинь эту мысль подлую! — говорил Пастухов. — Руки у тебя есть, голова есть?
— А нога?!
— Нога?.. Слушай, Сергушин, я сам, видишь, с костылем хожу. Только не он мне сейчас в жизни главная опора. Сердце — вот опора.
— Мягкое оно, сердце-то, — с горечью произнес Сергушин.
— А ты закали. Оно, сердце, к закалке пригодно. Как сталь. Про Николая Островского слышал? Недвижимый, слепой. А стал Островским. Все сердце заменило. Большевистское сердце. А ты по сравнению с Островским счастливец… Я, Сергушин, если хочешь знать, колдун. Увижу человека и сказать могу, что ему на роду написано.
— Мне написано инвалидом быть.
— Врешь. Не захочешь быть инвалидом — не будешь. Ты ведь до войны в колхозе жил? Село Березовки, Ленинградской области, верно?
— Откуда знаете?
— Говорю тебе, что колдун. И предсказываю: быть тебе после войны председателем колхоза. Или секретарем райкома комсомольского. И девки за тобой стаями ходить будут, а тебе от них бегать придется.
Пастухов говорил с этим Сергушиным так, будто одновременно обращался и к взрослому и к ребенку.
— Товарищ Пастухов! — позвала я.
— Кто там? — обернулся он к двери.
— Это я, Королева. Можно вас на минуту?
— Да, да, конечно, — поспешно ответил он. Потом сказал Сергушину: — Я еще к тебе приду. Тайну раскрою, как сердце закаливают.
И вышел в коридор, плотно притворив за собой дверь.
— Ну как там, товарищ Королева? — с тревогой спросил он.
— Плохо, — ответила я. — Очень плохо. Ему нужно сделать несколько вливаний глюкозы и стрихнина и обеспечить усиленное питание.
— Найдем, — уверенно сказал Пастухов. — Я сейчас распоряжусь…
— Ничего вы не распорядитесь! — с отчаянием сказала я. — Он отказывается.
— Как… отказывается?!
— Вы не понимаете, как отказываются? Вот так, очень просто! Не желает, чтобы на него тратили медикаменты, в которых остро нуждаются раненые. Ясно?
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу