— Коробов дрожал, когда рассказывал, — говорил Вовкодав. — Все просил простить его за то, что кричал «хайль Гитлер!»: больно, мол, не хотелось умирать бараном бессловесным.
— Он умер героем, — сказал Кузнецов, вопросительно взглянув на комиссара Пересветова. И тот понял его.
— Листовку напишем, — сказал Пересветов. — Чтоб каждый знал, как боролся и как умер боец Павел Коробов.
Весь остаток дня над головой висели «юнкерсы», перепахивали бомбами лесные опушки. Вечером связной привез страшную весть: погиб командир дивизии. И передал его последний приказ: не останавливаться, пробиваться на Демидов и далее на Смоленск, пока противник еще не опомнился.
В сумерках Кузнецов выехал в батальоны, чтобы лично проверить готовность к наступлению. Тьма еще не сгустилась, а трепетный свет ракет уже порхал над полями, спорил с зарей, горевшей на облаках багровыми отблесками.
— Вы бы побереглись, — говорил ему командир первого батальона старший лейтенант Байбаков.
Не отвечая, Кузнецов ходил во весь рост от ячейки к ячейке. Бойцы зарывались в землю, работая попарно, сменяясь по очереди. Те, кому была пора отдыхать, спали тут же у брустверов, положив голову на скатку: ночь, как и все предыдущие, обещала быть сухой и теплой.
— Разрешите обратиться? — спросил пожилой боец, оторвавшись от пулемета. — Это правда, что придется зеленые фуражки сымать?
— Получен приказ: всем выдать пилотки.
— Извините за вопрос: а зачем это?
— Снайперы бьют, знают: фуражки командиры носят.
— Значит, нас с командирами равняют?
— Пограничник он и в пилотке — герой.
— А если мы снимем фуражки, снайперы что — стрелять перестанут?
— Хитрые у тебя бойцы, — засмеялся Кузнецов, повернувшись к командиру батальона.
— Разрешите не сымать фуражек, товарищ майор. Мы так понимаем: раз охотятся, значит, страшны им пограничники. Так пусть боятся.
— Ладно, воюйте пока. Потом разберемся.
Неподалеку разорвался снаряд, зашумел по кустам вскинутой землей, как дождем: гитлеровцы начинали обычный свой ночной обстрел.
Кузнецов выехал на дорогу на краю села и помчался в расположение третьего батальона. Когда остановился и вошел в лес, сразу услышал сердитый голос старшего лейтенанта Васюкова.
— А я спрашиваю, почему ты помогаешь врагу?
— Ничего я не помогаю. Только перевязала.
Кузнецов узнал певучий голосок медсестры Астафьевой.
— У тебя какое оружие? Бинты, вата. А ты это свое оружие отдала врагу.
— Так он же раненый.
— А ты видела, что они с нашими ранеными делают?
— И вы разве могли бы? — испуганно спросила она.
— Что?
— Так же, как они?
— Тьфу ты, черт. Баба, она баба и есть. Иди, потом поговорим. И пришли ко мне красноармейца Зотина.
— А что натворил этот Зотин? — спросил Кузнецов, выходя из кустов.
Васюков растерялся. Но только на миг. Сколько Кузнецов помнил, этот старший лейтенант никогда не пасовал перед начальством. Упрямая, не щадящая ни себя, ни других твердость характера когда-то и побудила без колебаний назначить его на роту.
— Плачет Зотин, лежит у пулемета и плачет. Сам видел.
— Ну и что?
— Невесту бомбой убило, и он в слезы. Если теперь по каждому мертвому плакать... Как ему пулемет доверять?
— Не понимаю, — удивился Кузнецов. — Вот у меня жена в Москве да пятеро детей — мал мала меньше. На время войны мне их забыть, что ли?
— Почему забыть? Я об этом не говорил.
— А я именно об этом говорю. Мне своих до слез жалко, как подумаю. И плакал бы, да, видно, разучился в разлуках.
— Я так считаю, товарищ майор, — сказал Васюков, чуть шепелявя и растягивая слова, что означало высокомерную категоричную убежденность в своей правоте. — Перед войной читал я книгу, «Три мушкетера» называется. Есть там одна строчка. Уж не помню кто кому, только говорит, что нужны-де такие мушкетеры, которые, умирая, не стонали бы «прощай жена», а кричали «да здравствует король!». Короли нам, конечно, ни к чему, но суть...
— Вот такому «мушкетеру» я бы пулемет не доверил, — перебил его Кузнецов. — Не только не то время, но и сама война, и наши цели — не те. Мушкетеры дрались за честь хозяина, мы защищаем свой дом, семью, Родину. Война для нас не повод показать себя, это — трагедия народа.
Васюков молчал, не зная возражать или соглашаться, ожидая, когда командир полка станет привычным для него — сухим и требовательным. Затевая этот разговор, он не рассчитывал на продолжение и очень удивился, когда майор вдруг с полуслова понял мысль и продолжил так, что и сказать больше было нечего. И Кузнецов тоже молчал. Он думал о том, что война не только в том, что «рвутся снаряды и пули свистят», это когда еще рвутся связи между близкими людьми, рвутся души.
Читать дальше
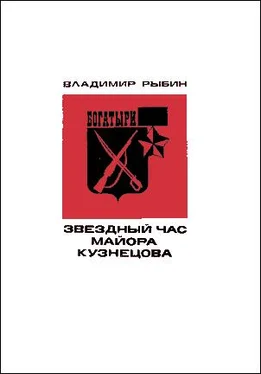

![Кен Людвиг - Одолжите тенора! [=Звездный час]](/books/95564/ken-lyudvig-odolzhite-tenora-zvezdnyj-chas-thumb.webp)

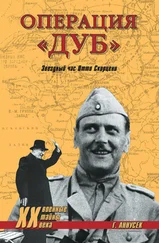
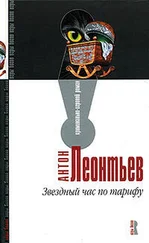

![Николай Эдельман - Звездный час [litres]](/books/405802/nikolaj-edelman-zvezdnyj-chas-litres-thumb.webp)

