В первый же день вечером, когда я, вдоволь налетавшись, наездившись на вездеходах, нашагавшись пешком, валюсь с ног на ночлеге, заморский гость, которому из-за хромоты двигаться куда труднее, садится в соседней комнате за машинку, и я засыпаю под ее треск.
М-да, черт возьми, неплохая школа. А главное, на слово не верит. Все просит показать. Не ленится подсчитывать трофейную технику, немецкие самолеты, захваченные на аэродроме, сожженные и целые, и все записывает, записывает. С дипломатом мы уже подружились. Несмотря на свою высокую папаху, он оказался расчудесным, жизнерадостным человеком, совершенно опрокинувшим во мне все представления о сотрудниках Наркомата иностранных дел. Говорят, главное достоинство дипломата уметь молчать. А он не умеет. Наоборот, очень разговорчив, так и сыплет анекдотами, да и в газетном деле понимает толк.
Вдоволь наездившись по дорогам Корсунь-Шевченковской битвы, мы прилетели в Умань, где мне мечталось пожить, подумать и даже начать книгу про моего безногого летчика. Здесь мало что изменилось. Мой друг сибиряк отвел под наш постой дом, где жил сам гитлеровский гебитскомиссар. Он набил в небольшой особнячок массу ценной мебели, которую, должно быть, натаскали для него из квартир всего города. Есть даже великолепное пианино без крышки. Заморский гость, увидев его, тотчас же присел на стульчик и отгрохал нам какую-то лихую полечку.
За ужином разговорился, и выяснилось, что он яростный антифашист и что жена и ребенок у него остались в оккупированной немцами Праге и он за них теперь очень боится.
Нет, в самом деле, славный парень, этот английский коллега. Вот только не нравится одна его манера. Возьмет за рукав своей худой рукой и, глядя прямо в глаза, спрашивает:
— Майор, только честно: вы очень злитесь на нас за то, что мы так волыним с открытием второго фронта?
Или:
— Очень лихо было в Сталинграде?
Или:
— Я, конечно, знаю, что все вы интернационалисты. Ваши символы веры мне известны. Но вот вы, лично вы, неужели вы не ненавидите немцев как нацию? Вы говорите, что у вас убит брат, погибли два брата вашей жены, и вы сейчас так вот спокойно смотрите на всех этих пленных фрицев?
Или:
— А Черчилль вас очень раздражает? Старый лис, не правда ли? Говорите, говорите, не стесняйтесь!.. Я об этом писать не буду.
Такие вопросы он задает не только мне, но и другим офицерам и солдатам, с которыми знакомится. Не скрою, они смущают, иногда настораживают, даже раздражают. Но, думается мне, ничего дурного в них нет. Просто ему хочется, кроме цифр и совершенно очевидных и зримых картин этого нашего наступления, как бы проникнуть в душу советского солдата, стать на его точку зрения, его глазами посмотреть на войну, на ход событий. Он даже спросил меня как-то:
— Вот вы говорите: выходили из окружения под Ржевом, воевали среди партизан. Неужели у вас ни разу не появилось там ощущение, что все кончено, что немцев не сломить, что это сила, которую не остановишь, и не возникало желания приспособиться? А?
Хочешь заглянуть в наши души, ну что ж, это, может быть, и ускорит процесс пришивания последней пуговицы и приблизит открытие второго фронта. Тут уж лучше говорить начистоту.
— Мистер Верт, — спрашиваю я его, переходя в контратаку. — А у вас, у англичан, нет теперь опасения, что мы справимся в одиночку с Гитлером и его компанией и сами освободим оккупированные страны?
Гость смеется.
— Такая мысль сейчас появляется, — говорит он. — И кое-кого на Западе она уже беспокоит. А что вы сами об этом думаете?
Что думает об этом майор Кампов? Ну что ж, говорить так говорить. А думает он, что хребет фашистскому зверю мы уже сломали под Сталинградом, что на Курской дуге он, этот зверь, уже лишился возможности серьезно наступать, что теперь он, этот зверь, яростно огрызаясь, откатывается под нашими ударами. Он еще не лишен сил. Он еще будет страшно сопротивляться. У него еще есть резервы и для того, чтобы тут или там наносить нам серьезные раны, и что где-то у своего логова он еще будет драться с невиданной яростью. Но судьба его уже решена, вернее, предрешена, и предрешили ее мы, советские люди.
— Конечно, мы очень благодарны нашим союзникам за ленд-лиз, за самолеты, машины, алюминий, за свиную тушенку, за дела в Африке, Италии, но… Но, — говорю я с убеждением, которое укрепилось во мне за эти последние месяцы наступления, — но если второго фронта не будет, все будет решено на первом. В этом я не сомневаюсь. Не сомневался и раньше, а теперь уже для сомнений нет никаких оснований.
Читать дальше
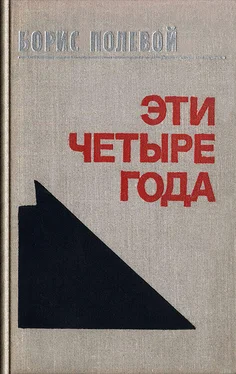





![Дмитрий Холендро - В Крыму [Из записок военного корреспондента]](/books/418377/dmitrij-holendro-v-krymu-iz-zapisok-voennogo-korr-thumb.webp)
![Михаил Соловьев - Боги молчат. Записки советского военного корреспондента [сборник]](/books/431209/mihail-solovev-bogi-molchat-zapiski-sovetskogo-vo-thumb.webp)

