Решил провести в Умани несколько дней.
Здесь базируется теперь тот самый легкобомбардировочный комсомольский полк, который в буран бомбил Шандеровку в ночь Корсуньского побоища. Чудесные ребята, а ведь с ними я еще как следует и не познакомился. И есть у меня еще одна тайная задумка. Встреча с безногим летчиком под Орлом не дает мне покоя. Ведь в «Правде» ни строки о нем так и не появилось. Только Указ о присвоении ему звания Героя Советского Союза. Засяду-ка вот в Умани на несколько дней и набросаю план брошюры о чудесном этом парне, пока не выветрились из головы подробности его рассказа, благо тетрадка, в которой я его записал, все еще лежит у меня в подсумке.
И чтобы дисциплинировать себя, положил я на стол лист бумаги и написал на нем заглавие брошюры: «Русский воин Алексей Маресьев».
Ночевать пришлось в комендатуре, в просторном помещении, где пару дней назад находилась какая-то канцелярия германского министерства пропаганды. Спать расположился на полу, на пачках немецких листовок. Вероятно, поэтому стоило сомкнуть глаза, как сразу начинала мне сниться какая-то несусветная чушь, и глаза сами раскрывались.
Но из кабинета коменданта, что находится по соседству, врывается такая интересная жизнь, что невольно прислушиваешься.
Вот несколько женщин, судя по голосам, молодых, притащили прятавшегося в дровах переодетого немецкого офицера. Они стрекочут, как сороки, а офицер бормочет, как заведенный: «Кригс нихт гут…», «Гитлер капут», полагая, вероятно, что эти две фразы спасут его от коготков голосистых украинских жинок.
Затем явилась какая-то, судя по голосу, старушка. Весьма громким шепотом она сообщает коменданту, что в подвале ее дома уже пятый день сидят несколько «чи немцев, чи румынцев, пес их разберет. Только все чернявые». Хотят сдаться и боятся выходить. А люди вроде ничего, забрались в погреб, чтобы их свои с собой не уволокли, а теперь боятся, как бы наши, приняв за шпионов, не подстрелили. Вот старушку и послали в качестве парламентера к «главному офицеру».
Приходит какой-то гражданин. В его квартире жили немцы. Сейчас он вернулся и обнаружил там целый склад награбленных вещей: пальто, платья, костюмы, белье. Как быть? Куда девать? Боится — не подумали бы на него и не пошла бы о нем дурная слава.
Только под утро я ненадолго задремал. Разбудил порученец коменданта и пригласил пить чай. Первое свободное утро поднялось над Уманью. Пожары погасли, свежим снежком прикрыло копоть и гарь. На улицах много жителей. Они еще по привычке робко, с оглядкой, стараясь быть тише и незаметней, идут по тротуарам. Военных почти не видно. Фронт ушел уже так далеко, что в городе не слышно канонады.
Весь день провел в комсомольском полку у летчиков. Преотличные ребята. А вечером сидели с комендантом в комнатушке за его кабинетом и предавались его любимому занятию: пили чай.
Комендант, пожилой человек, сибиряк, офицер из партийных работников. Он молчалив, как камень, и любит пить чай. Пьет его, ей-богу, стаканов по десять. Пьет с блюдца, в которое он дует, чтобы чай остыл. Пьет вприкуску, сладкий чай презирает: бурда.
Ох и канительная это служба — быть комендантом. Он еле держится на ногах, и стоит разговору на мгновение оборваться, как он засыпает. Столько больших и малых дел свалилось на его бедную голову! В особенности пленные. Их приводят все больше и больше, выуживают из подвалов, ловят на чердаках. Они выходят из лесу. Кстати, одного эсэсовского офицера вытащили даже из выгребной ямы, где он чуть не задохнулся, и приволокли в комендатуру в совершенно очаровательном виде.
Всех надо взять на довольствие, законвоировать, а главное, кормить. А с передовой прибывают новые и новые партии. Конвойных не хватает. На улице я видел картину, знакомую по дням Сталинграда. Тянется колонна немецких пленных, а впереди бодро шагает пленный же румынский офицер, назначенный ответственным за этап. Сзади бредет пожилой солдат в шинели третьего срока. Идет покуривая, как пастух за стадом.
У коменданта забота — накормить всю эту ораву.
— Хорошо, гитлеровцы будто это дело предусмотрели. Богато побросали продовольствия. А то бы мне совсем капут, — дуя в блюдце, серьезно говорит он. А у меня в голове назревает тема: «Столько-то дней в военной комендатуре». Кажется, на эту тему никто еще не писал. А как тут интересно! Какие картины открываются!
Нет, теперь уже твердо — поживу у сибиряка несколько дней, вымоюсь в бане, переменю белье. Почувствую себя человеком. Будет время понаблюдать, подумать. Ведь есть же, есть над чем думать, и враг уже не тот, и мы не прежние. В этом наступлении даже у самых «зачуханных» наших солдатиков будто крылья вырастают, и другой, совсем другой становится война.
Читать дальше
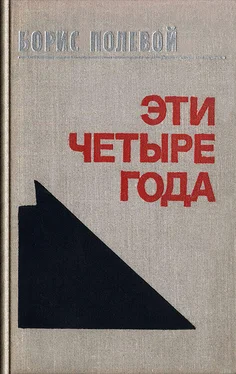





![Дмитрий Холендро - В Крыму [Из записок военного корреспондента]](/books/418377/dmitrij-holendro-v-krymu-iz-zapisok-voennogo-korr-thumb.webp)
![Михаил Соловьев - Боги молчат. Записки советского военного корреспондента [сборник]](/books/431209/mihail-solovev-bogi-molchat-zapiski-sovetskogo-vo-thumb.webp)

