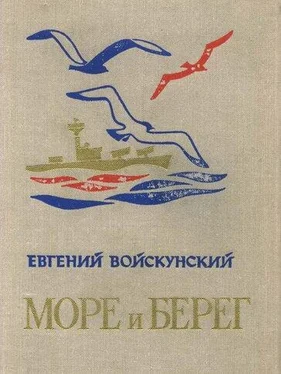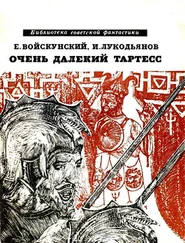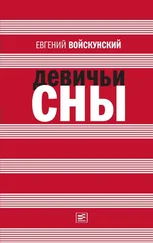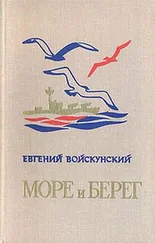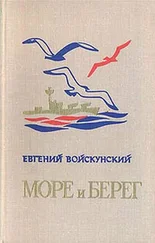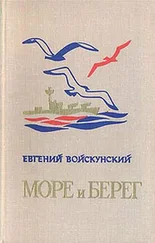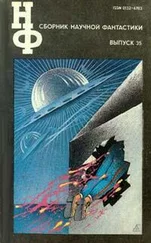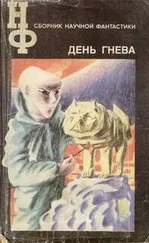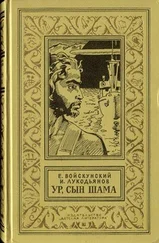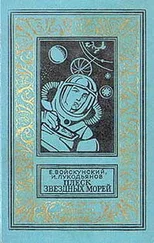Как-то раз Синицын пришел рассерженный.
— С ребятами своими повздорил, — сказал он. — Сели они забивать «козла», стук на всю казарму, ну, как всегда. А один, Петя такой, придумал: как шесть и шесть выставляют, так он кричит: «Банаян!» — Лолий втянул голову в плечи, лицо у него сделалось бессмысленно-радостным, рот — растянутым до ушей, и он с размаху ударил ладонью по столу выдачи книг, показывая этого самого Петю. — Да вы что, ребята, говорю, — продолжал Синицын, — чего вы орете: Банаян да Банаян? А потому, что шесть и шесть самый крупный камень, объясняет Петечка, вот мы и назвали его Банаяном. И радуется, доволен ужасно… А меня возмутило это. Начал я им втолковывать… мол, комбат наш, конечно, хороший человек и майор, но зачем же называть его именем самый крупный камень? Нет, что ли, в жизни ничего более значительного?.. Не понимает Петя, чего мне надо, чего я ввязался… Слово за слово, поругались мы…
— Действительно, — сказал я, — зачем ты им игру испортил?
— Не надо было, конечно, лезть, — согласился Лолий. И добавил совсем тихо, словно про себя: — Не люблю я это… холопье в человеке…
* * *
Весь декабрь и половину января была у нас горячка с самодеятельностью. В клубе бренчал струнный оркестр. Руководил им красноармеец Жуков, темнолицый, цыгановатого вида ростовчанин, превосходный гитарист. Костя Лымарев отделывал свой номер — он читал знаменитый отрывок из некрасовских «Крестьянских детей». «Однажды в студеную зимнюю пору…» — начинал он сбивчивым детским голоском, под Рину Зеленую, и так пищал до заветного «шестой миновал». И тут: «Ну, мертвая!» — рявкал Костя во всю дьявольскую мощь своего баса и дальше опять продолжал пищать. Эффект был неотразимый: зал взрывался хохотом, неистово бил в ладоши. Костя сиял; ярко, радостно горели его прыщи.
Репетировалась одноактная глуповатая пьеска, я играл в ней роль физкультурника, неудачливого влюбленного. Синицын — вот кому следовало возглавить драмкружок, но он отказался участвовать в нашем «позорище». Он предпочел подготовить к смотру художественное чтение. Готовился он всерьез, профессионально, добираясь до самых глубин текста. Какое-то время при наших встречах Лолий не мог говорить ни о чем другом — только о поэме Маяковского и о своих поисках наибольшей выразительности.
Несколько раз мы, участники смотра, ездили в город, в Дом флота. От песен дребезжали стекла в штабном автобусе. Наш спектакль просмотрел режиссер Смирнов — тот самый, чью лекцию я слушал. Он был снисходителен к доморощенным нашим «талантам», а Миша Левин, штабной чертежник, исполнявший главную комическую роль, заставил его посмеяться.
Ханко готовился к смотру самодеятельности. Ханко развлекал сам себя…
Шла зима. Замело, запуржило. Декабрь словно накрыл полуостров белым маскхалатом.
Меня перевели из роты в домик, где жили штабные писаря, кладовщики, сапожник, парикмахер, портной и свинопас (в сложном хозяйстве батальона было и небольшое свиное стадо). Жаль было покидать обжитой и теплый сарай, жаль было расставаться со Славкой Спицыным и другими ребятами. Но уж очень далеко было тащиться по сугробам из роты в клуб и обратно. А казарма, в которой обитали представители «вольных профессий», находилась сравнительно недалеко от клуба. Новые мои сотоварищи жили повольготнее, чем в роте: вставали позже, на зарядку не ходили, по утрам подробно рассказывали, какие сны им снились, а по вечерам, после дневных трудов, было у них два главных развлечения — забить «козла» и поговорить «за баб». Вечерние разговоры в роте бывали куда разнообразнее.
Моей отрадой были письма от Лиды. Писали друг другу мы часто — раз в три-четыре дня. Письма ее, живые и непосредственные, как она сама, всегда отражали настроение. То они были наполнены веселой милой болтовней о подругах, о текущих университетских делах, о театральных постановках; то приходили письма грустноватые, философического склада, — Лида пыталась разобраться в наших отношениях и представить себе их будущее, отмечала какие-то перемены во мне, улавливаемые по тону моих писем, и требовала, чтобы я совершенно искренне написал, какие вижу в ней недостатки. Никаких «недостатков» в Лиде я не видел, а в том, что наши отношения минувшей ленинградской зимой несколько «похолодали», был виноват сам. То, что перед самым моим призывом в армию мы как бы снова — второй раз — рванулись друг к другу, я называл в письмах возрождением чувства. Нам было по восемнадцать лет, и мы не столько понимали, сколько чувствовали, неясно и подсознательно, что нашли друг друга на всю жизнь. Наверное, Лида понимала это лучше, чем я: зрелость чувств приходит к женщинам раньше…
Читать дальше