Офицер усмехнулся, поглядел вслед убегавшей девушке.
— Кого несете? — вроде бы между прочим поинтересовался он.
— Санинструктора, кроху-недотрогу нашу.
— Таню? — ахнул Самохин, и все увидели, как лицо у него враз залила мутноватая бледность.
А Таня лежала с окаменелым лицом, и глаза ее ничего не видели, будто свет померк перед ними. И так продолжалось долго.
В госпитале для Тани произошло событие огромной важности: пришло известие о присвоении ей звания Героя Советского Союза. Таню поздравил в телеграмме сам командующий фронтом Ватутин. Посыпались письма от боевых друзей. Прислал письмо и Леон. Но о том ни слова. Боится? Или думает, что Таня ничего не поняла?
Теперь вот вновь предстоит встретиться. Как-то это произойдет? Какие слова скажут они друг другу?
4
Коммунистов и комсомольцев Березин собрал в глубоком котловане. Замполита слушали стоя, тесно прижавшись друг к другу. Сыпал мелкий холодный дождик, но люди будто не замечали его. Нет, Березин не говорил красивых слов, но за кажущейся обыденностью его речи вставало и величие Днепра, и размах битвы за него, и глубина ответственности, которая ложилась на плечи каждого.
Для Сабира Азатова многое слилось в этом слове — Днепр, и давно уже близки его сердцу воды и берега великой реки. Тут он строил гидростанцию — знаменитый Днепрогэс. Тут он встретил свою Ганку и узнал счастье любви. Отсюда он ушел в институт и стал историком. А разве не он, Сабир Азатов, завтра примет бой на этих вот берегах, и, кто знает, может быть, ему придется впоследствии писать историю этой великой битвы.
Где-то там, за Днепром, его Ганка и сын. Азатов вспомнил о них, и боль обожгла сердце. Как они там, родные? Живы ли? И лютая ненависть к врагу закипела в груди Сабира. Нет, не дрогнет в бою его рука и не будет от него пощады фашистам.
После своего выступления Березин попросил высказаться коммунистов.
— Слов нет, — рассудительно говорил бронебойщик Голев, — бои впереди суровые. А всякий бой, как и работа, лучше спорится, коль сердце солдата на месте, я надо, чтоб лучше он знал, как там в тылу и на фронте. Рассказать ему, растолковать и повеселить человека нужно. Тверже душой станет. Обо всем должна быть думка у коммунистов.
— Может, скажешь, музыку ему иль там домино, шашки, — кольнул старого солдата Соколов. — Тут, брат, Днепр, бой впереди!
— К чему тут смешки, — вспыхнул Голев. — Всему свое место и мера. Человек на фронте не день живет и не месяц даже, годами воюет. А раз так — ему и отдых нужен. А отдыхать — это не только спать да посвистывать в две ноздри.
Азатов посочувствовал уральскому сталевару и, протиснувшись к центру, решил поддержать бронебойщика.
Заговорил Сабир просто и негромко, но слова его были по-своему проникновенны, и Зубца тронул в них тот самый огонек, что будит мысль, согревает сердце и зовет к действию. Загорелое лицо парторга дышало возбуждением, и он проводил одну мысль — слово коммуниста должно служить делу, а дело — долгу.
— Раз коммунист, — заканчивал Сабир, — значит, лучший солдат и лучший командир. Раз коммунист, — значит, лучший организатор и вожак. Раз большевик, — значит, пример всем!
Когда расходились с собрания, небо по горизонту зажглось огнями зенитных разрывов, издалека доносился глухой орудийный гул. И, как бы по-новому ощутив грозное дыхание фронта, коммунисты пошли в свои подразделения.
1
Пересекая поверженную Польшу, черный поезд всю ночь мчался к фронту. В бронированном салон-вагоне фюрера царил полумрак. Утонув в глубоком кресле и уронив на колени коричневый томик Шпенглера, Гитлер вслушивался в монотонный перестук колес. Кто знает, не сама ли смерть отсчитывает ему последние минуты. Нет, мало, мало уничтожал он этих неистовых фанатиков и дикарей! Одно воспоминание о партизанах повергло его в мрачное состояние, и, чтобы избавиться от него, он порывисто встал с кресла. Забытый Шпенглер свалился под ноги. Гитлер с досадой пнул книгу, зашелестевшую растрепанными страницами, и, выключив свет, прошел к окну. Приподняв жалюзи, приник к стеклу разгоряченным лбом и, чтобы привыкнуть к темноте, на минуту закрыл глаза.
До чего неумолимо время, и есть ли что еще столь неотвратимо жестокое? Катастрофа за катастрофой. Чем он прогневил судьбу? И почему дни, люди, события — все стало вдруг черным? Угрюмость легко и часто у него сменялась отчаянием, отчаяние — исступлением. Приходилось признать, время вышло из его повиновения. А еще недавно оно было во всем подвластно его воле. Это становилось невыносимым и страшно давило его, лишая сил, власти над собой и над другими, над кем еще вчера повелевал он так самодержавно.
Читать дальше


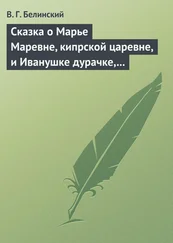





![Иван Сотников - Дунай в огне. Прага зовет [Роман]](/books/406593/ivan-sotnikov-dunaj-v-ogne-praga-zovet-roman-thumb.webp)



