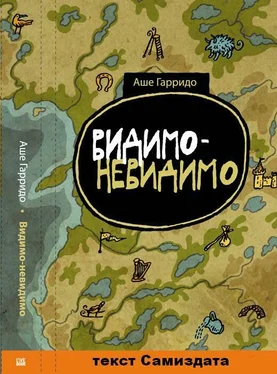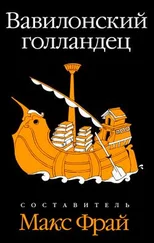Матильда Сориа разжала пальцы. Лист нырнул вниз, ткнулся в атласный подол, с тонким свистящим шорохом скользнул по нему. Узким носком домашней туфли примадонна прижала его к темно-вишневому ковру. Надо же так, ткнув пальцем в небо, попасть в самую середину его. Если бы звезды неба умели петь… Бедный писака! А что же он слышал не далее как вчера вечером? Не она ли стояла перед ним на ярко освещенной сцене и оплакивала добродетель, добровольно приносимую в жертву ради спасения родного города? А в сцене с вероломным Агагом, военачальником и по виду — героем из героев, когда он склонял ее к бесчестному соитию — разве не она была воплощенной суровостью, разве не ее голос — как сталь, да! — пресекал все его попытки приблизиться? И не он ли, неустанный, звенел и плавился, когда Юдифь клялась в любви и верности возлюбленному, уже зная, что вечером тайком отправится за городскую стену, прямиком в шатер проклятого Олоферна?
Дамы в ложах алебастровыми ручками подносили к уголкам глаз невесомый батист в пене кружев. Галерка рыдала без различия пола и возраста.
Но далеко было еще до сцены триумфа. О, тогда, вся объятая сложной световой игрой, которую вели меж собой газовые фонари и многочисленные зеркала, она горделиво стояла на фоне городской площади, искусно намалеванной на холсте, и признавалась отцам города в совершенном прелюбодеянии. И когда вероломный Агаг замахивался, чтобы первым бросить в нее камень — в ответ ее голос взлетал сверкающим мечом, полыхал зарницей, и она распахивала плащ… И в руке ее, воздетой к небу, качалась ухваченная за волосы бутафорская окровавленная голова — и через мгновение летела едва не в онемевшую публику… и кулаки за ее спиной разжимались, и бутафорские камни с глухим стуком падали на подмостки.
Матильда провела руками по лицу, по волосам. Сейчас-то она не на сцене, не поет. Сколько лет — а всё не иссякает упоение. С течением времени всё больше власти берет человеческое сердце, всё меньше безразличной вечности остается в ее плоти. И она все еще не знает, как принимать этот факт. Порой торжествует, надеясь, что так уходит из-под власти Холодных Господ. Порой сокрушается о подступающей смертной участи. Но стоит ей только вспомнить о пении — и нет разницы между ней и ней же, человечье сердце и звездный воск сплавляются в одно, звездное не дает сердцу уставать, сердце не дает звезде губить, и остается лишь чистое сияние голоса, по человеческим меркам — невозможного, безграничного, неутомимого. О, это счастье — быть собой в своей силе, в своем естественном совершенстве, быть живой и бессмертной одновременно.
И после вчерашних трудов на сцене, и после этой ночи — лучше бы ей быть вовсе бессонной! — живая Матильда Сориа нуждается в неспешной, ленивой прогулке по набережной и чашки какао в кондитерской сестер Лафлин. Решительной рукой она дергает шелковый шнурок, и где-то в глубине квартиры откликается мелодичный звоночек, и тут же раздается цокот каблучков, и горничная уже торопливо приседает на пороге.
— Мадам?
— Одеваться, — коротко бросает дива. — Гулять.
В этом городе ей к лицу лиловый. О, это цвет избранных, редкую женщину он не превратит в подобие готического призрака, бледного и унылого. В этом городе, где белокурые красавицы носят алое и золотое, экзотическая красота в обрамлении утонченного лилового с отделкой цветов корицы или шоколада бросается в глаза ярче яркого.
Шесть накрахмаленных нижних юбок — тайное основание, на котором воздвигнут невесомый храм элегантности. Оборки фестонами ниспадают от колен до щиколоток, из под них с показной скромностью глядят строго зашнурованные остроносые туфельки на небольшом, но очень пикантном каблучке. Широкий атласный пояс делает талию еще тоньше — и рукава demi-gigot, узенькие в облипку от запястья до локтя, расцветают пышными тюльпанами выше, подчеркивая тонкий стан. Широкий плиссированный отложной воротник трепещет, волнуемый майским ветерком, и порхают вокруг плеч широкие ленты, спускающиеся с полей шляпы, на которых райский сад из перьев и бантов. Короткие, невыразимо изящные перчатки, довершают туалет — но не забыть еще крошечную сумочку в бисере и кружевах. Теперь всё. Ловко, ладно, изящно. Она уже носила такое, не припомнить, сколько лет назад — но так или иначе, у нее было больше времени, чтобы отточить мастерство прогуливания нарядов по набережной, чем у всех жительниц Суматохи, вместе взятых. И она смело вступает в игру со свежим морским, теплым от мая ветром — всеми лентами и оборками, всеми складками и всей податливой гладью шелка, муслина и органзы.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу