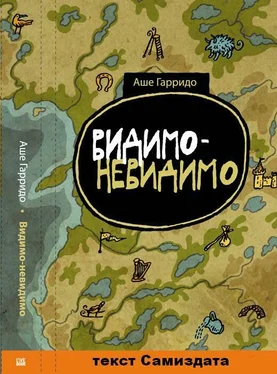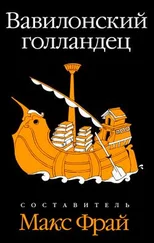Это уж он от меня пятиться стал, да руками взмахивает: прочь, мол, поди. А я за ним. А он от меня. Кыш, кыш! И руками машет. А потом палку подобрал — и палкой кинул, несильно так, напугать только.
А я за ним. Батюшка, я же Мэри, я Мэри твоя!
А он камень поднял — пошла, пошла прочь, нелюдь! Кыш!
И пустился бежать. Я за ним. А он камнями швырять в меня.
И тут помрачение со мной сделалось. Испугалась я отца родного, камнем мне по голове угодил — больно! И прочь бежать кинулась, овца…
А как опомнилась — вернулась на дорогу и за ним. Да только его и след простыл. Бежала-бежала — и забыла, зачем бегу. Трава у дороги под ветром колышется, солнце светит, ветерок теплый веет. Есть и слаще в жизни дело, чем по пыльной дороге бегать.
Так и осталась я одна на Клятой пустоши травку щипать.
Вечером вышла к ручью — издалека свежестью водяной тянуло. Там меня и накрыло снова, как стемнело. А у меня ни гребня волосы расчесать, ни щетки одежду в порядок привести, только что умыться прохладной чистой водой… А если кому довелось тогда ниже по ручью воды испить, вот удивился, поди, отчего вода солона.
Вот и пожелала я себе.
Не то что провалиться сквозь землю — куда там? А вот чтобы унесло меня отсюда на край света, на самый-самый что ни на есть крайний край. Чтобы мне и сгинуть там насовсем.
И только руками по щеками, по векам — сколько ни смывай, а солью жгло — провела, открываю глаза… и вот он. Самый край. Такой крайний, что и света там уже нет. Скользким обрывом из-под ног — в пустоту. Я даже охнуть побоялась — только рот сам собой открывался, как у рыбы, из сети вытащенной да в лодке на дно брошенной. Ни голоса, ни разума не осталось вмиг. Поняла, не почувствовала даже, а каждым суставчиком поняла, как будто они понятливые стали, или как будто им понятное для них показали: умираю. Всё здесь мертвое. Это край. И мне, живой, нечего здесь делать, а хочу остаться — придется умереть, даже и не придется, а просто иначе быть не может, здесь и времени-то нет, чтобы в нем жить.
И небо черное, но не как у нас бывает в ненастную ночь, а пустое. Нет облаков, туч, завихрений небесных, нет ветряных могучих крыльев, не проглянет светило хоть малое. Нечему двигаться, нечему светить.
Только три звездочки над самым краем висели, как будто этому тоненькому ломтику земли положен подходящий ломтик неба над ним. Вот я в них и вцепилась взглядом, за них и держалась, а сколько времени прошло — не знаю сама, только когда склон чуть дрогнул, я пальцы в глину вдавила, скрючила — а когда сесть и руками упереться успела, сама не знаю. От страха и кружения в голове, видно, согнуло меня до самой земли.
А темнота как будто схлынула, отодвинулась, как вода отступает в сушь, и из нее появился человек — правда, человек! Голова, руки, ноги, плед в темную клетку, лицо удивленное…
Встал надо мной и смотрит, а я вся трясусь, задыхаюсь, боюсь оторвать руки от глины, но к нему тянет так… Вот этот ломтик земли — зыбкий, ненадежный, мертвый он, как будто и нет его вовсе. А человек этот… И сейчас он у меня перед глазами, как тогда: волосы встрепаны, плед с плеча свалился, ноги расставлены широко, крепко… и сам такой крепкий, крепче этой земли небывучей. И живой. Светится жизнью и крепкой силой. Светло вокруг него. И я — к нему. А он говорит — как с испуганной овцой, в самом деле, голосом тихим, ровным. Заговаривает. Да ты кто, говорит, а я вот, вот он я кто такой, — а сам стоит, как в лодчонке утлой, ловко и крепко, но ловит, ловит эту землю, как будто она из под ног уйти, перевернуться, сгинуть может в миг любой. И — шаг ко мне, и на руки подхватил. Зажмурься, говорит. И ветром холодным обдало, охватило, тянет от него. А у него руки крепкие, грудь горячая, и сердце в ней стучит сильно и ровно. Дрожу у него на руках, уж и ветер стих, и тепло, как от летнего солнца — а отцепиться не могу. И тут меня опять наизнанку вывернуло — прямо у него в руках. А он удержал.
Опьяняюще ярким стоял мир перед Видалем. Каждое утро было новеньким, прохладным, усыпанным сверкающей росой. Выходили на рассвете, плотно позавтракав и прихватив по большому ломтю черного душистого хлеба. В новой куртке, в новых высоких сапогах Хосе поначалу чувствовал себя слишком нарядным для того, чтобы бродить по колено в траве или переходить вброд ручьи. Но от мастера отставать не след — вот и шел сквозь чудеса: лоскутные завесы листвы, столбы золотистого света, прохладные заросли, солнечные поляны, свет и тень мелькали, кружа голову, из-под ног взмывали слюдяные стрекозы, вспархивали бархатные бабочки, с гуденьем взлетали тяжелые жуки. Маленькие существа тут и там сновали между поваленными стволами и пучками высокой травы, торопились по своим делам, жили свою короткую жизнь. Из пронизанных солнцем крон деревьев лился птичий звон.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу