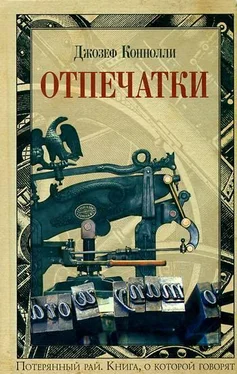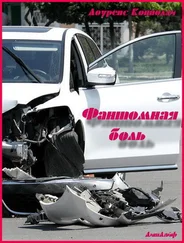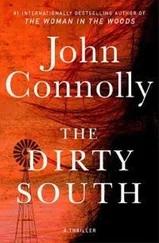— Ты лучше всех должен понимать! Ты сам через это прошел! Ты должен знать, каково это! — помню я его выкрики, снова и снова, на людях и наедине.
Отец его, насколько я помню, никак не пытался увильнуть от вызова.
— Да, — соглашался он. — Поначалу было ужасно тяжело. Они называли меня Пятачком — я был, видишь ли, самым маленьким и пухлым. И розовощеким. Но одного парнишку из Франции они прозвали Щечками. И он действительно это заслужил, бедняжка. Выдержал всего пару семестров. Понимаешь ли, Мартин, всегда есть тот, кому хуже, чем тебе. Вот в чем вся соль школы-интерната: ты должен найти этого парня, вытащить на солнышко и устроить ему настоящий ад.
Я наткнулся на юного Суина, дай бог памяти… да, уже много лет назад.
— Ну так как, — спросил я, — ты все-таки пошел в интернат?
— Да, — ответил он.
— И что, они, ммм?..
— Да, — сказал он, — они называли меня Пятачком.
— Но ты, эээ… выжил, как нетрудно заметить, — попытался я.
— Да, — сказал он.
И больше ничего. С тех пор я его не видел. Да нет, мне вообще нет дела до того, что с ним сейчас. Слабак и неудачник. Баба, я же говорю.
Так что, думаю, вполне возможно, что злополучный старый пьянчуга, которого мы звали Ворром, сознательно или нет, выбрал профессию врача лишь потому, что ее трудно туго увязать с его фамилией. Я тут вспомнил, что одного нашего адвоката звали Костинг. Может быть — как знать? — здесь то же самое. Думаю, одна из причин, что я чувствительнее ко всем этим вещам, чем другие, состоит в том, что я по сей день склонен называть людей (по крайней мере, мужчин — людей, с которыми имеешь дело) исключительно по фамилии. Возможно, пережиток Харроу [2] Харроу (осн. в 1571) — одна из девяти старейших престижных мужских привилегированных частных средних школ, находится в пригороде Лондона.
— которую закончил, разумеется, и мой отец. Его отец, я так понимаю (никогда его не знал), посещал заведение куда ужаснее. Ну ладно. И, разумеется, меня поразило… ох, очень, очень давно, что моя собственная фамилия — Клетти, хотя на самом деле нет, понимаете, — нет, нет, не моя. Мне неуютно в этой фамилии. Я считаю ее фамилией отца — и только его. Это моего отца я считаю последним из Клетти. Сам же я выше этого.
— Я договорился о месте для него в аббатстве, — это Ворр.
— В Вестминстерском аббатстве? — А это уже я. — Что, правда? Похороны за государственный счет и участок рядом с поэтами? Слегка преждевременно, нет? Или он станет отцом с большой буквы «О»? Собирается постричься в монахи? На закате дней, так сказать…
— О боже, Лукас. Ты не хуже меня знаешь, что за аббатство и где оно находится. Почему ты никогда не можешь?.. Я нашел ему отличную частную палату со всеми удобствами. Там прекрасный медицинский уход. «Скорая» приедет с минуты на минуту. Дорого, конечно, но…
— Так что с ним на самом деле случилось, как по-вашему?
Ворра перекосило. Он начал с искренней озабоченности, чтобы нагло увильнуть от ответа, скрывшись под маской хорошо обдуманного прогноза, заключил я. Пьяный старый дурак.
— Ну, как я уже говорил, похоже, это в некотором роде… эрозия, другого слова я не могу, ммм…
— Рак? Вы имеете в виду рак? У него рак?
— Ну, не совсем… то есть, да, одна из форм, штаммов того, что, эээ, в быту называют раком, — но ничего похожего я никогда не видел. По правде говоря, проведенные мною анализы не показали, ммм…
— Вы не имеете представления, верно? Ни малейшего представления.
Знаете, я мог бы с тем же успехом добавить: «Ты, пьяный старый дурак». Конечно, он уловил тон.
— Иисусе , Лукас — ты самый невыносимый!.. Окажи мне маленькую услугу, хорошо? Если когда-нибудь заболеешь, пожалуйста, не приходи ко мне, ладно? Я не смогу лечить тебя как полагается.
— Дорогой доктор Ворр, — улыбнулся я, отворачиваясь. — Налейте себе чего-нибудь выпить, пока мы ждем «скорую».
Я ощущал его взгляд, пока неторопливо шел к двери.
— Я, эээ… вообще-то я уже налил, Лукас.
— Да, — подтвердил я, покидая его. — Я так и понял.

Иногда он был в сознании, мой отец, иногда нет. Они кое-что ему давали, шепотом сообщали мне: кое-что от боли. Внутри он — полная развалина, бормотал доктор, полная.
— Я думаю!.. — По контрасту, сиделка теперь едва не визжала, ее глаза широко распахнулись, точно у куклы, марионетки, губы вытянулись вперед эластичной трубочкой; полагаю, основная ее мысль была такова: если мой отец не услышит ее слов (для чего надо быть практически мертвым), остается шанс, что он заметит хотя бы часть ее бурных телодвижений — в некоторой степени осознает ее общую изобильность по части соображаловки (если мне будет позволена дерзость). — Я думаю… сегодня мы чувствуем себя немножко лучше!
Читать дальше