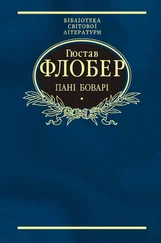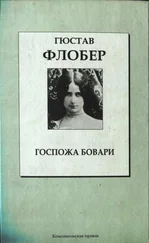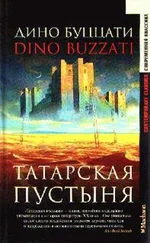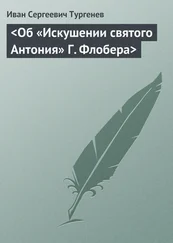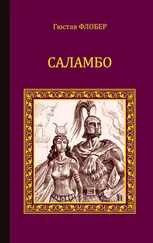Гюстав Флобер
Искушение святого Антония
Памяти моего друга
АЛЬФРЕДА ЛЕ ПУАТВЕНА,
умершего в Невиль-Шан-Дуазель
3 апреля 1848 года.
Фиваида. Вершина горы, площадка, закругленная полумесяцем, замыкается большими камнями.
Хижина отшельника — в глубине. Она сделана из глины и тростника, с плоской крышей, без двери. Внутри виднеются кувшин и черный хлеб; посредине, на деревянной подставке, большая книга; на земле тут и там волокна плетенья, две-три циновки, корзина, нож.
В десяти шагах от хижины воткнут в землю высокий крест, а на другом краю площадки склоняется над пропастью старая, искривленная пальма, ибо гора срезана отвесно, и Нил образует как бы озеро у подножия утеса.
Вид справа и слева ограничен оградою скал. Но со стороны пустыни, как плоские уступы берегов, огромные волны пепельно-белых песков простираются параллельно, одна за другой, уходя вверх; совсем же вдали, над песками, цепь Ливийских гор образует стену мелового цвета, слегка растушеванную фиолетовыми парами. Прямо перед глазами садится солнце. Небо на севере серо-жемчужного оттенка, у зенита пурпурные облака, словно космы гигантской гривы, вытягиваются по голубому своду. Эти пламенные лучи темнеют, полосы лазури становятся перламутрово-бледными; кустарники, валуны, земля — все кажется твердым, как бронза, и в воздухе плавает золотая пыль, столь тонкая, что сливается с трепетанием света.
Святой Антоний, с длинной бородой, длинными волосами и в тунике из козьей шкуры, сидит, скрестив ноги, собираясь плести циновки. Как только солнце скрывается, он испускает глубокий вздох и говорит, оглядывая горизонт:
Еще день! еще день в прошлом!
Прежде, однако, я не был так несчастен! Перед рассветом я приступал к молитве; потом спускался к реке за водой и возвращался по крутой каменистой тропе с бурдюком на плече, распевая гимны. Затем развлекался уборкой хижины, брался за инструменты; старался, чтобы циновки были совсем одинаковы, а корзины легки, ибо малейшие дела мои казались мне тогда обязанностями, и в них не было ничего тягостного.
В установленные часы я прекращал работу и, простирая руки на молитве, ощущал как бы поток милосердия, изливавшийся с высоты небес в мое сердце. Ныне он иссяк. Почему?..
Он медленно прохаживается в ограде скал Все порицали меня, когда я покидал свой дом. Мать поникла замертво, сестра издали делала мне знаки, чтобы я вернулся; а та, Аммонария — дитя, что я встречал каждый вечер у водоема, когда она пригоняла буйволов, — плакала. Она бежала за мной. Браслеты на ногах ее блестели в пыли, а туника, распахнувшись на бедрах, развевалась по ветру. Старый аскет, уводивший меня, кричал на нее. Наши верблюды продолжали скакать, и больше я не видал никого.
Сперва я выбрал себе жилищем гробницу одного фараона. Но чары струятся в этих подземных дворцах, где мрак словно сгущен древним курением благовоний. Из глубины саркофагов до меня доносился скорбный голос, звавший меня; а то у меня на глазах оживали вдруг мерзости, нарисованные на стенах, и я бежал к берегам Красного моря и укрылся в развалинах крепости. Там мое общество составляли скорпионы, ползавшие среди камней; вверху же, над головой, в голубом небе непрестанно кружили орлы. Ночью меня раздирали когти, щипали клювы, касались мягкие крылья, и ужасные демоны, воя мне в уши, опрокидывали меня наземь. Раз даже люди одного каравана, направлявшегося в Александрию, мне подали помощь, а затем увели с собой.
Тогда я решил обучиться у доброго старца Дидима. Хотя он был слеп, никто не знал Писания лучше него. Когда кончался урок, он шел гулять, опершись на мою руку, Я вел его на Пакеум, откуда виден маяк и открытое море. Затем возвращались мы через гавань, толкаясь среди людей всяких народностей, вплоть до киммерийцев, одетых в медвежьи шкуры, и гимнософистов с Ганга, натертых коровьим пометом. И непрестанно бывали стычки на улицах: то евреи отказывались платить налог, то мятежники пытались изгнать римлян. Кроме того, город полон еретиков, приверженцев Манеса, Валентина, Василида, Ария — и все пристают к тебе, споря и убеждая.
Их речи иногда мне вспоминаются. Как ни стараешься не обращать на них внимания, они все же смущают.
Я удалился в Кольцим и предался такому великому покаянию, что перестал бояться бога. Тот, другой, желая стать анахоретами, собрались вокруг меня. Я дал им устав деятельной жизни, ненавидя сумасбродства гностиков и мудрствования философов. Со всех сторон осаждали меня посланиями. Издалека приходили посетить меня.
Читать дальше