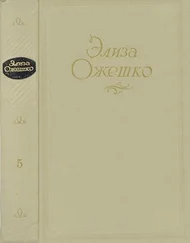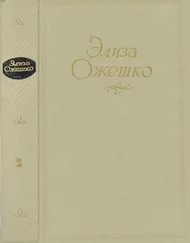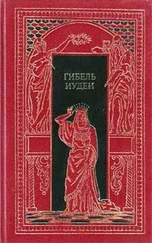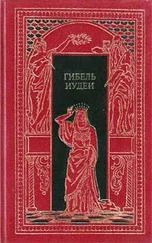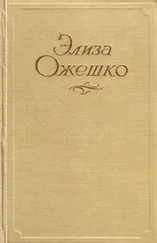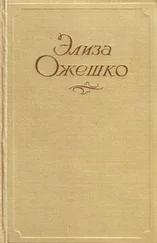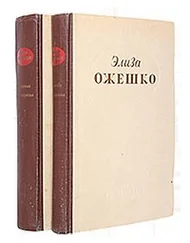— Только бы он сегодня пришел...
Аксена, должно быть жалея о том, что своими разговорами довела внучку до слез, отозвалась с печки:
— Брось веник в огонь!
— Зачем? — удивилась Петруся.
— Брось веник в огонь! — повторила старуха.— Сгорит веник, гости будут.
Петруся бросила в огонь старую метлу, а после того, как в этот же день Ковальчук действительно пришел, она свято уверовала в чудодейственность этого средства и потом советовала его всем своим подругам. Да мало ли таких же и еще более чудесных средств она знала и советовала людям? Всему этому училась Петруся у бабки, а так как она любила почесать язычок, то никогда не хранила ничего в тайне, да и не думала ни в чем таиться. Но хоть и рано она постигла всякую премудрость, а не разгадала ворожбы, предвещавшей собственную ее долю. Однажды она лопатой вынимала хлеб из печи. А пекла его Петруся на славу. Даже опытные хозяйки удивлялись тому, как он всегда у нее удавался, и шепотком толковали, что, наверно, ей помогает какая-нибудь сила и оттого-де ни в чем не бывает у нее промашки. На самом деле сила эта была в усердии и проворстве девушки: если она что-нибудь делала, то уж всей душой и на редкость ловко. Так и теперь: хлебы один за другим выходили из печи и с лопаты соскальзывали на стол, румяные, пышные, в меру пропеченные и пахнувшие так, что запах разносился по всей хате. Добрый ломоть хлеба — утеха мужику. Петр сидел на лавке, облокотившись на стол, и улыбался, как всегда, ласково и важно; Агате, по обыкновению, нездоровилось, но она стирала у печки и что-то рассказывала, тоже улыбаясь; оба подростка, хохоча, тыкали пальцами пышные хлебы, и только искусница-стряпуха не смеялась, даже не улыбалась. Вынимать хлебы из печи — это такое важное дело, что ей было не до шуток; засучив по локоть рукава рубашки, она орудовала лопатой с пылающими от жара щеками, выпятив губы и даже нахмурив лоб. Вдруг Петруся вскрикнула:
— Ай! Ай!
Скинув на стол последний каравай, она уронила наземь лопату и заломила руки.
— Ой, боже мой, боже! — заголосила она сквозь слезы.
Петр и Агата, вытянув шеи, одновременно взглянули на хлеб и в один голос спросили:
— Треснул он, что ли?
Они не ошиблись. Последний каравай оказался почти насквозь треснувшим, как будто его ножом разрезали пополам.
— Треснул, — ответила Петруся.
Несколько секунд длилось молчание, наконец с печки донесся старческий голос Аксены:
— Кому-то уходить!
Агата коснулась рукой лба и груди.
— Во имя отца и сына... Господи милостивый... спаси и избавь нас от всяких напастей!
— Кому-то уходить! — повторила старуха.
— Из хаты или из деревни? — спросил Петр.
Подумав с минуту, Аксена ответила:
— Может, из хаты, а может, и из деревни, но тому уходить, по ком в хате Петра Дзюрдзи у кого-то сердце болит.
И в самом деле, ушел из Сухой Долины тот, по ком в хате Петра Дзюрдзи у кого-то болело сердце: Михал Ковальчук вытянул жребий и отправился на военную службу. Однако перед тем в сумерки видели какую-то пару, долго сидевшую на большом замшелом камне за околицей, там, где дороги расходились во все четыре стороны и стоял старый высокий крест. Два парня шли мимо, возвращаясь из усадьбы, куда нанимались молотить, и потом рассказали в деревне, что Петруся на камне у креста прощается со своим Ковальчуком. Они говорили об этом, хохоча во все горло. Засмеялись и женщины.
— Пускай прощается, — говорили они, — это уж на веки веков, аминь.
Все в деревне в один голос твердили, что Петруся простилась со своим милым на веки веков, аминь. Вернуться-то он сюда вернется: в Сухой Долине у него и землица своя и хата, да только вернется он через шесть лет, а шесть лет для девушки — это целый век.
Либо она за другого тем временем выйдет, либо так состарится, что Ковальчук сам не захочет на ней жениться. Да и мыслимое ли это дело, чтобы через шесть лет он еще хотел жениться на ней! С другим сердцем и с другой думкой вернется он с дальней стороны. Даже старая Аксена толковала это внучке, но Петруся не верила, мотала головой и твердила свое:
— Он сказал, что как вернется, так и женится на мне. Он сказал: «Жди меня, Петруся...»
— И ты, дурная, будешь его ждать?
— Буду.
Старуха сильно встревожилась; с этого дня ее костлявые щеки и высохшие губы постоянно шевелились, как будто она с большим трудом что-то жевала беззубыми деснами. Несколько раз еще она говорила внучке:
— Выходи за Степана: может, он и не будет тебя бить, а если когда и прибьет, велика ли беда? Все лучше в мужниной хате сидеть, чем весь век в людях спину гнуть.
Читать дальше