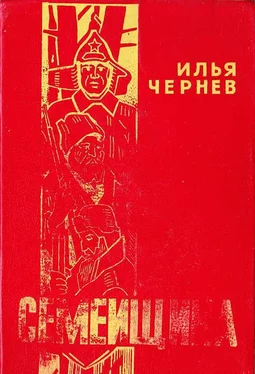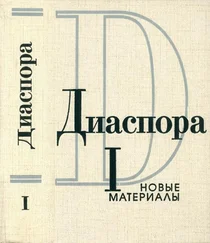— Грех живой… антихристово наваждение, — согласился Пантелей, чтобы утишить бурю.
— Мне плевать на грех… и на антихриста! — закричал Иван Финогеныч. — Пусть уставщик о ваших душах заботится, а мне глядеть на вас тошно. Вот што! Какие вы есть семейские, коли вас жадоба сатанинская гложет. Не живётся вам по-хорошему, по-божьему… как отцы и деды. Ну, и я не хочу жить с вами, еретиками, прости господи!
Выпалил единым духом — и разом обмяк…
«Вот ведь, — раздумывал он час спустя, — плевать на грех… Слыханное ли дело!»
Он крепко досадовал на несуразную, в сердцах, обмолвку. Чего доброго, дознаются старики понесут всякую напраслину. На этот счет у них строго, — языка не распускай. Только это и скребло душу. Божьего же гнева на глупое свое слово он не страшился, о боге не привык шибко думать, и вечером, на сон грядущий, молился не усерднее обычного — чуть касаясь лбом пола, как ещё в детстве мать учила.
3
Посудачили никольцы насчет чудного переселения Ивана Финогеныча на Обор, — тем дело и кончилось. Пантелей Хромой, вызвавший вспышку его гнева, отступился одним из первых первых:
— Укочевал вить, никого не послушался. А что к чему — где дознаёшься…
Осень в этот год стояла долгая, чуть не целый месяц после покрова возили никольцы тяжелые снопы с полей на телегах.
— Снежищу чо навалило! — глянула в окно Устинья, Дементеева молодуха, проснувшись однажды ни свет ни заря.
На земле и на крышах по всему порядку лежала пушистая белая пелена. Коромыслами изогнулись черные тонкие молодухины брови, — какой негаданный снегопад!
— Будто смерётная одежа, — прошептала Устинья… Однако снег к полудню стаял, и жирная грязь пуще прежнего затопила улицы и проулки.
Потом ударили крепкие морозы, сковали землю, установилась зима — ветреная и малоснежная.
Мужики подались в лес, за дровами. Парни и девки забегали на посиделки, сходились в истопленных горницах, в избах, где посвободнее да стариков поменее. Здесь заливались гармошки, бренчали бандуры-балалайки, в дальних углах, под расцвеченными кашемириками, закрывающими милующихся от постороннего взора, звонко, без стеснения, целовались… намечались свадебные пары. Красногубые девки смачно пощелкивали жевательной серой. Парни понахальнее тискали девок, не накрываясь кашемировыми платками — на виду у всех.
Андрей повадился на посиделки, — дров запасли с братом еще с лета, делать, нечего, — пропадал до полуночи на шумных гулянках.
Приглянулась парню круглолицая Анисья. От лавки не видать, а телом ядреная. Много раз обнимал он ее под кашемириком за круглые плечи, — ничего, не отталкивает, сама льнет.
— Вот приду из солдат, — давал Андрей заручку, — тогда поженимся. Пойдешь за меня?
— Долго, паря, ждать! — шептала в ответ Анисья и еще тише вздыхала: — Не стерплю!
Андрей хохотал:
— Стерпишь, экая ты!..
Ему смешки, словно не его, а кого другого, скоро угонят на четыре года из родимой деревни в город, в солдаты. Знамо, не люба парню солдатчина, по лицу порою приметно, но чаще он и виду не подает. Весь в батьку, Ивана Финогеныча. Гогочет, остроголовый!
Через месяц Андрей вконец вскружил голову девке. Сама приставать стала:
— Андрюшка, женись… Забреют еще к осени.
— А ты четыре года солдаткой безмужней согласна? — как-то спросил он ее без всякой ухмылки.
— Согласная, — потупилась крутобедрая Анисья.
Андрей поедал к отцу на Обор. Палагея всегда была рада наездам веселых своих сыновей, напекла оладий, поставила на стол яишню, соленых грибов, смётаны. За столом Андрей как бы невзначай бросил:
— Жениться, батя, хочу.
Полные губы матери разъялись, в застывшей руке повисла поднятая к забелке ложка. Иван Финогеныч хитро сощурился:
— А как же призыв? Или, за Дёмшей следом, большой нумёр по жребию вытянешь?..
— Может, и так. А не пофартит, буду в солдатах служить, — какая беда? Не я один.
Улыбка сбежала с Иванова лица, клин бородки подался вперед:
— А баба — жди? Ни баба, ни девка? Конечно, Дёмша обижать не станет, работой не утрудит. А человек-то четыре года вытерпит ли? Слез сколь прольет. Телом измучается. Ни баба, ни девка, а?
Андрей склонил голову, поскреб пальцем по клеенке. В светлых, ясных глазах его вспыхнуло смущение.
— Да она сама набивается… Христом-богом, — наконец нашел он оправдание.
— Сама?! Дура!.. Скус попробует, тогда-то? — Иван Финогеныч скривился в многозначительной улыбке.
— Ту ты, греховодник! — Палагея встала: не за столом, дескать, вести подобные разговоры.
Читать дальше