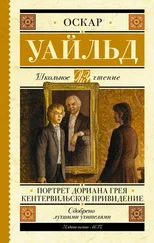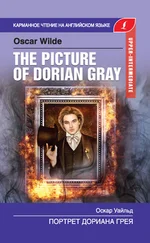– Мой милый Эрскин, – сказал я, вставая с кресла, – на сей счет ты явно заблуждаешься. Эта теория – единственный верный ключ к пониманию сонетов Шекспира. Она продумана во всех деталях. Лично я верю в Уилли Гьюза.
– Не говори так, – глухо отозвался Эрскин. – Мне кажется, что в этой идее есть что-то роковое, с точки же зрения логики сказать в ее пользу нечего. Я тщательно во всем разобрался и уверяю тебя, теория совершенно безосновательна. Правдоподобной она кажется только до известного предела. Дальше – тупик. Ради всего святого, дружище, оставь всякую мысль об Уилли Гьюзе. Иначе тебе не миновать беды.
– Эрскин, – ответил я, – твой долг – сообщить миру об этой теории. И если этого не сделаешь ты, сделаю я. Скрывая ее, ты грешишь перед памятью Сирила Грэхэма – самого юного и самого прекрасного из мучеников искусства. Умоляю тебя! Ведь этого требует справедливость. Он не пожалел жизни ради идеи – так пусть асе смерть его не будет напрасна.
Эрскин посмотрел на меня в изумлении.
– Полно, тебя просто захватили чувства, вызванные всей этой историей. Однако ты забываешь, что вера не становится истиной только потому, что кто-то за нее умирает. Я любил Сирила Грэхэма, и его смерть была для меня страшным ударом. Оправиться от него я не мог многие годы. Наверное, я не оправился от него вовсе. Но Уилли Гьюз? Нет, Уилли Гьюз – идея пустая. Такого человека никогда не было. Рассказать обо всем людям, говоришь ты? Но ведь люди думают, что Сирил Грэхэм погиб от несчастного случая. Единственное доказательство его самоубийства – адресованное мне письмо, но о нем никто ничего не знает. Лорд Кредитон и по сей день уверен, что тогда произошел несчастный случай.
– Сирил Грэхэм пожертвовал жизнью во имя великой идеи, – возразил я. – И если ты не хочешь поведать о его мученичестве, расскажи хоть о его вере.
– Его вера, – ответил Эрскин, – основывалась на ложном представлении, на представлении порочном, на представлении, которое не задумываясь отверг бы любой исследователь творчества Шекспира. Да его теорию просто подняли бы на смех! Не будь же глупцом и оставь этот путь, он никуда не ведет. Ты исходишь из уверенности в существовании того самого человека, чье существование как раз и надо сперва доказать. И потом, всем известно, что сонеты посвящены лорду Пемброку. С этим вопросом покончено раз и навсегда.
– Нет, не покончено! – воскликнул я. – Я продолжу начатое Сирилом Грэхэмом и докажу всем, что он был прав.
– Безумный мальчишка! – пробормотал Эрскин. – Отправляйся-ка лучше домой – уже третий час. И выбрось из головы Уилли Гьюза. Я жалею, что рассказал тебе обо всем этом, и еще больше – что убедил тебя в том, чему не верю сам.
– О нет, ты дал мне ключ к величайшей загадке современной литературы, – ответил я, – и я не успокоюсь до тех пор, пока не заставлю тебя признать – пока не заставлю всех признать, что Сирил Грэхэм был самым тонким из современных знатоков Шекспира.
Я шел домой через Сент-Джеймс-парк, а над Лондоном занималась заря. Белые лебеди покойно дремали на полированной глади озера; высокие башни дворца на фоне бледно-зеленого неба отливали багрянцем. Я подумал о Сириле Грэхэме, и глаза мои наполнились слезами.
Когда я проснулся, шел уже первый час пополудни, и сквозь занавеси на окнах в комнату струились косые золотистые лучи солнца, в которых плясали мириады пылинок. Сказав слуге, что меня ни для кого нет дома, и выпив чашку шоколада с булочкой, я взял с полки томик сонетов Шекспира и стал внимательно читать. Каждый сонет, казалось, подтверждал теорию Сирила Грэхэма. Я точно положил руку на Шекспирово сердце, явственно ощутив трепет и биение переполнявших его страстей. Мысли мои обратились к прекрасному юноше-актеру, и в каждой строчке мне стало видеться его лицо. Помню, особенно меня поразили два сонета – 53-й и 67-й. В первом из них, восхищаясь сценической разнохарактерностью Уилли Гьюза, многообразием исполняемых им ролей – от Розалинды до Джульетты и от Беатриче до Офелии, – Шекспир восклицает:
Какою ты стихией порожден?
Все по одной отбрасывают тени,
А за тобою вьется миллион
Твоих теней, подобий, отражений [13].
Строки эти были бы непонятны, если бы не были обращены к актеру, ибо во времена Шекспира слово «тень» имело и более узкое значение, связанное с театром [14]. «И лучшие среди них – всего лишь тени», – говорит об актерах Тезей из «Сна в летнюю ночь», и подобные выражения часто встречаются в литературе тех дней. Эти два сонета принадлежат, очевидно, к числу тех, где Шекспир размышляет о природе актерского искусства, о том странном и редкостном душевном темпераменте, без которого нет настоящего актера. «Как тебе удается быть столь многоликим?» – спрашивает Шекспир Уилли Гьюза.
Читать дальше
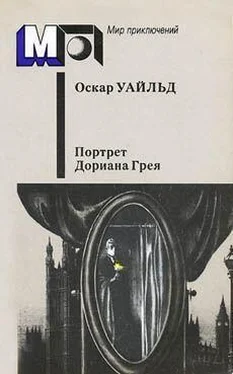

![Оскар Уайльд - Портрет Доріана Ґрея [збірник]](/books/29426/oskar-uajld-portret-dorІana-Ґreya-zbІrnik-thumb.webp)
![Оскар Уайльд - Портрет Дориана Грея [сборник]](/books/29653/oskar-uajld-portret-doriana-greya-sbornik-thumb.webp)




![Оскар Уайльд - Портрет Дориана Грея [litres]](/books/399276/oskar-uajld-portret-doriana-greya-litres-thumb.webp)