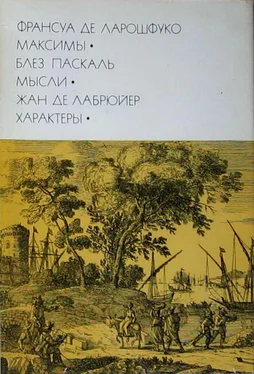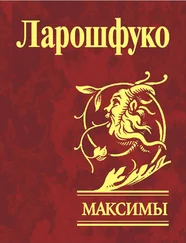Некто насмехается над людьми, которые из-за снедающего их беспокойства или из любознательности отправляются в долгие путешествия; у них нет при себе записных книжек; они не пишут ни воспоминаний, ни статей, ездят, чтобы видеть, но ничего не видят или сразу забывают увиденное, жаждут осмотреть очередную башню или колокольню, стремятся переплыть очередную реку, лишь бы она звалась не Сеной и не Луарой, покидают родной край только затем, чтобы вернуться назад, живут на чужбине ради того дня, когда из дальних странствий приедут домой. Мой собеседник прав, нападая на этих людей, и я внимательно его слушаю.
Но вот он говорит, что книги учат большему, чем путешествия, и дает понять, что у него обширная библиотека. Я выражаю желание осмотреть ее, прихожу к нему, но не успевает он довести меня до лестницы, как мне становится дурно: воздух у него в доме пропитан запахом черного сафьяна, в который переплетены книги. Желая подбодрить меня, хозяин орет мне прямо в ухо, что у всех его книг — золотой обрез и тиснение, что он собрал у себя такие-то и такие редкие издания, что галерея забита ими сверху донизу, за исключением разве нескольких пустых полок, да и те раскрашены весьма искусно, — кажется, будто на них тоже стоят книги; сам он, по его словам, ничего не читает и в галерею эту никогда не заглядывает, однако, чтобы доставить мне удовольствие, готов подняться туда вместе со мною… Его уговоры тщетны: я благодарю хозяина за любезность, но так же, как он сам, отнюдь не стремлюсь ближе познакомиться с кожевенной мастерской, которую он именует библиотекой.
Иные, будучи не способны ограничить свою жажду знаний какой-нибудь определенной областью, изучают все науки подряд и ни в одной не разбираются: им важнее знать много, чем знать хорошо, интереснее нахватать побольше знаний, чем глубоко проникнуть в один-единственный предмет. Любой случайный знакомец кажется им мудрецом, от которого они ждут откровений. Жертвы суетной любознательности, они в конце концов разве что выбиваются из полного невежества: таковы плоды их долгих и тяжких усилий.
Другие владеют ключом от всех наук, но никогда в них не проникают: всю жизнь они корпят над языками, на которых говорят жители востока и севера, жители обеих Индий и обоих полюсов, наконец — жители Луны. Они считают истинно достойными внимания и труда лишь те наречия, которые давно забыты, лишь те надписи, которые сделаны самыми странными и таинственными знаками. Они искренне жалеют того недалекого человека, который посвятил себя изучению родного языка или в крайнем случае еще латыни и греческого, постоянно читают разного рода историйки, но так и не знают истории, бегло проглядывают множество книг, но ни из одной не извлекают пользы. Когда дело касается событий и принципов, эти люди подобны бесплодной почве, зато они словно житницы для обильнейшего урожая всевозможных слов и выражений. Память их до отказа наполнена, она уже больше ничего не вмещает, но головы все равно пусты.
Некий горожанин больше всего на свете любит здания: он выстроил себе такой красивый, роскошный и пышно изукрашенный дом, что жить в нем невозможно. Хозяин, не дерзая поселиться в этом дворце и не находя в себе мужества сдать его внаем какому-нибудь вельможе или финансисту, до скончания дней ютится на чердаке, между тем как анфилада парадных комнат и мозаичные полы отданы во власть приезжим англичанам и немцам, которые осматривают жилище нашего горожанина наравне с Пале-Роялем, Л…г…ким {239} и Люксембургским дворцами. В эту великолепную дверь непрерывно стучатся гости: все хотят осмотреть дом, но никто не вспоминает о его владельце.
Знаем мы и таких собирателей, у которых дочери на выданье лишены приданого. Да что я говорю: они раздеты, разуты, а порою и голодны. Эти люди так бедны, что отказывают себе в пологе над кроватью и в белых простынях. Причина их бедности совсем близко, рядом: это комната, сплошь заставленная, забитая бюстами прекрасной работы, уже заросшими грязью и покрытыми толстым слоем пыли. Их распродажа принесла бы хозяину достаток, но он все не решается с ними расстаться.
Дифил начал с одной птицы, а теперь их у него тысячи; вместо того чтобы оживить его дом, они превратили его в сущий ад. Двор, гостиная, лестница, прихожая, спальни, кабинет — все это один огромный птичник; там стоит дикий шум, отнюдь не похожий на веселый щебет: даже осенние ветры не свистят так пронзительно, даже полая вода не разливается с таким грохотом; людские голоса не более слышны в этой неразберихе звуков, чем лай комнатной собачонки в приемном зале, где придворные ждут выхода монарха. То, что вначале было приятным развлечением, стало тяжким трудом, с которым Дифил едва справляется: целые дни, — те самые дни, которые, промелькнув, никогда не возвращаются, — он сыплет зерно своим питомцам и убирает за ними нечистоты. Дифил взял к себе на службу человека и платит ему немалые деньги только за то, что этот искусник подсвистывает чижам на флажолете и заставляет канареек высиживать птенцов; правда, он не только тратится, но и сберегает: у его отпрысков нет учителей, и они не получают никакого образования. Измученный собственной прихотью, он запирается вечером, но по-настоящему вкусить отдых может лишь тогда, когда отдыхают птицы, когда этот маленький народец, любимый Дифилом за песни, перестает наконец неть. Даже во сне Дифил видит птиц; более того — он сам становится птицей, у него вырастает хохолок, он щебечет и порхает с ветки на ветку; порою ему даже грезится по ночам, что он линяет или высиживает птенцов.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу