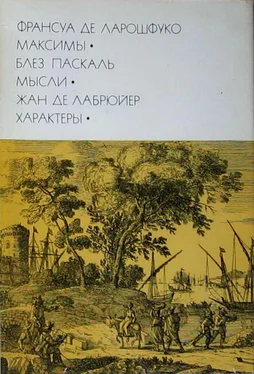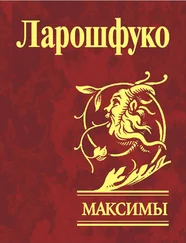110
Слабости и жажда наслаждений рождаются вместе с человеком и вместе с ним умирают. От них его не избавляют ни удачи, ни горести: они — плод первых и возмещение за вторые.
111
Влюбленный старик — одно из величайших уродств в природе.
112
Лишь немногие помнят, как трудно было им в молодости соблюдать умеренность и целомудрие. Отказываясь от погони за наслаждениями в угоду приличиям, из пресыщенности или ради здоровья, человек первым делом начинает осуждать ее в других. Такое поведение во многом объясняется нашей приверженностью к тому, с чем мы порываем: нам хочется, чтобы все лишились того блага, которое стало нам недоступным. Это значит, что мы им завидуем.
113
Старики становятся скупыми не из боязни впасть в нужду, ибо многие из них настолько богаты, что подобное опасение не может у них возникнуть; да и с какой стати этим дряхлым людям бояться утраты жизненных благ, от которых они сами отказываются в угоду своей скупости? Ни при чем тут и стремление оставить побольше средств детям, ибо человеку не свойственно любить других сильнее, чем себя; к тому же бывают скупцы, у которых нет наследников. Этот порок скорее всего — следствие возраста и особенности душевного склада стариков, которые предаются ему столь же естественно, как молодежь гонится за наслаждениями, а люди зрелые преследуют честолюбивые цели. Скупость не требует ни расточения сил, ни юности, ни здоровья: чтобы сберегать доходы, не нужно ни суетиться, ни хлопотать — достаточно лишь прятать деньги в сундук и во всем себе отказывать. Это удобно для стариков, которые тоже должны питать какую-нибудь страсть, ибо ведь и они — люди.
114
Есть люди, которые живут в скверных домах, спят на жестких постелях, одеваются плохо, а едят еще хуже, покорно терпят летний зной и зимнюю стужу, добровольно отказываются от общества себе подобных и влачат свои дни в одиночестве; которые страдали вчера, страдают сегодня и будут страдать завтра; которые, живя точно под бременем вечного покаяния, тем самым нашли способ, как прийти к вечной гибели самым мучительным путем. Это — скупцы.
115
Воспоминания юности дороги старикам: они любят те места, где провели ее, людей, с которыми познакомились в ту пору; они употребляют слова, которые были тогда в ходу, им нравится прежняя манера петь, старинные танцы, тогдашние моды, утварь, экипажи. Они и теперь не в силах порицать то, что служило их страстям, способствовало их наслаждениям и доныне еще воскрешает прошлое в их памяти. Разве в силах они предпочесть новые обычаи и нынешние моды, чуждые им, ничего хорошего им не сулящие и придуманные молодыми людьми, которым это дает столь большие преимущества перед стариками?
116
Как излишняя небрежность в одежде, так и чрезмерная щеголеватость равно подчеркивают дряхлость и умножают морщины стариков.
117
Старик, если только он не очень умен, всегда высокомерен, спесив и неприступен.
118
Старец, проведший жизнь при дворе, наделенный сильным умом и хорошей памятью, — это бесценный источник сведений о прошлом и кладезь мудрых истин. Он — живая история века, расцвеченная такими примечательными подробностями, которых не найдешь в книгах. У него мы учимся правилам поведения в свете и в частной жизни, всегда безошибочным, потому что они выведены из опыта.
119
Молодые люди переносят одиночество легче, нежели старики, ибо их развлекают страсти.
120
Фидипп, человек уже старый, утончен во всем, что касается приятностей жизни; он изыскан даже в пустяках; еду, питье, отдых и моцион он превратил в искусство и тщательно соблюдает мелочные правила, которые сам же придумал, чтобы окружить свою особу удобствами; он не пожертвовал бы ими даже ради любовницы, если бы режим позволял ему завести ее. Он обременяет себя ненужными мелочами, превращенными привычкой в необходимость. Тем самым он лишь укрепляет узы, привязывающие его к жизни, и стремится употребить остаток ее на то, чтобы сделать расставание с ней еще более мучительным. Неужели мало ему одного страха смерти?
121
Гнатон живет только для себя, все остальные для него как бы не существуют. Ему недостаточно сидеть за столом на почетном месте — он один занимает три стула. Пренебрегая тем, что обед приготовлен не только для него, но и для всех собравшихся, он завладевает целым блюдом, всласть угощается за каждой переменой и не принимается за одно кушанье, пока не отведает от всех, — он смаковал бы их все разом, если бы мог. За едой он не пользуется прибором, хватает мясо руками, вертит его, отделяет от костей, раздирает и расправляется с ним так, что другие гости, если только они не сыты, вынуждены насыщаться объедками. Он являет их глазам все виды отвратительной неопрятности, отбивающей аппетит даже у самых голодных: сок и соус каплют у него с усов и бороды; накладывая себе рагу, он роняет куски в чужую тарелку или на скатерть, так что по пятнам можно проследить путь этих кусков. Поглощая пищу, он громко чавкает и пучит глаза; стол для него все равно что кормушка; время от времени он пускает в ход зубочистку, а затем снова принимается за еду. Куда бы он ни попал, он всюду чувствует себя как дома: на проповеди или в театре он располагается так же непринужденно, словно у себя в спальне. В карете он может сидеть лишь сзади, — по его словам, на всех остальных местах он бледнеет, ему становится худо. Путешествуя в компании, он всегда попадает в гостиницу раньше спутников и умеет оставить за собой лучшую комнату и лучшую постель. Он все обращает себе на пользу: лакеи его знакомых бегают по его делам так же, как его собственные. Он завладевает всем, что попадает под руку, — чужой одеждой, чужими экипажами. Он докучает всем, не заботится ни о ком, не жалеет никого, знает лишь одни болезни — свои (он страдает полнокровием и разлитием желчи), не скорбит ни о чьей смерти, боится лишь собственной и, чтобы спастись от нее, охотно согласился бы истребить весь род человеческий.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу