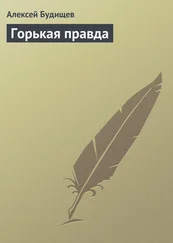Больной застонал, и какие-то конвульсии пробежали по его телу… Рушник упал с головы. Устя и знахарка сорвались с места, но спустя две-три минуты грудь его, начавшая было судорожно и бурно вздыматься, стала вновь почти неподвижной, тело тоже вытянулось пластом. Знахарка положила свежее полотенце на голову и, прислушавшись к груди и к полуоткрытому рту, шепнула в ответ на перепуганный взгляд матери:
— Дышит!
Устя не сводила глаз с своего сына; в выражении их и всего ее лица отражалась неодолимая мука, импонировавшая и знахарке: как ни жгло ту любопытство, но она не решалась нарушить это молчание горя и сама смирялась перед веянием смерти, носившейся в хате.
— По-моему, хворому лучше, — промолвила она после долгого молчания, желая отвлечь Устю от отчаянных дум и завязать интересный разговор снова.
— Отчего ж лучше? — уронила тихо и печально старуха, не отрывая глаз от своего сына.
— Не так пашит, словно бы спадает горячка.
— А лежит мертвец мертвецом… Очей не закрыл… Ой, боже мой!
— Это всегда так… Из сил выбила огневица, ну, и не может… А вот полежит тихо… да отпочинет, а мы его в купель. Э, у меня, паниматко, есть надия теперь…
— Господи, заступи и помилуй! — вырвался у старухи вопль, и она опустилась на колени.
— И помилует, только не отчаивайтесь, паниматко… сразу не встанет, а вам для него ж нужно беречь себя. Думайте и говорите про что другое… Ей-богу, лучше!
Устя снова села и повернулась лицом к знахарке: по-видимому, слова последней подбодрили ее.
— Да вот хоть скажите, — подступала хитро знахарка к интересовавшему ее эпизоду, — дал ли тот пан вам четвертную и сделал ли условие в волости?
— И четвертную дал, и условие, — ответила неохотно и односложно старуха.
— И увез зараз вашего сына?
— На другой день… Я побаивалась… На Ликере лица не было; чуяло ее сердце, что прощается навеки… И сын было хотел назад… и я гроши вертала, да пан уперся… ну и завез… Я боялась долго, что Ликера наложит на себя руки… Ой, запала с той поры в хату нудьга, разляглась туга… а слез сколько вылилось… так не знаю уже, где они теперь и берутся.
— Ну, а писал же сын? Высылал гроши?
— Обещал по десяти карбованцев высылать в месяц… да трудно было… высылал по пяти…
— Скажите, работа трудная, стало быть… И чему ж учил его пан?
Старуха поникла головой и молчала.
— На что, говорю, муштровал? — повторила настойчиво свой вопрос знахарка.
— Ох, — вздохнула тяжело Устя, — доведались после… и не спрашивайте!
— До чего ж пан приставил Харька? — не унималась знахарка, сгорая еще больше от любопытства, по мере того как Устя тяготилась рассказывать об этом.
— Старшина меня потом призывал, — начала оживленнее Устя, желая перевести разговор на другое. — "Ты, — говорит, — большие теперь получаешь гроши, так плати недоимку!" — "Бога бойтесь, — говорю я, — какие там гроши? Да коли опекун надбал недоимку, то пусть он и платит, а мы и макового зернятка с этой земли не имели… Хай он платит, хоть ваш и родич!" А старшина как затопает ногами: "Языка не распускай, — кричит, — ваш надел, ваш и грех! Твой сынок не откаснулся ведь от надела, — ну, и плати! Он там, мол, горилку лыгает да горящее клоччя глотает, а общество за лодыря отвечай!.. Нет, с тебя сдеру, лохмотья твои все продам, оставлю, — кричит, — только подушку да образа!" — "Сдерите, — говорю, — лучше последнюю шкуру мою себе на чёботы". — "И до шкуры, — сычит, — доберусь до твоей, а наипаче до шкуры твоего паршука безсоромного…"
— От каторжный, — заметила сочувственно знахарка. — Нуте, нуте, так чем же, выходит, Харько был?
Старуха молчала.
— Мне это нужно, чтоб знать лучше хворобу, — подчеркнула знахарка. — Так чем же сын был?
— Кумедиянщиком, — проговорила едва слышно старуха.
— Кумедиянщиком?.. — всплеснула руками знахарка. — Так, значит, и тот пан был…
— Над кумедиянщиками кумедиянщик…
— Ну, и писал сын, как и что?
Долго молчала старуха, наконец с видимой болью произнесла, отрывая слова:
— Сначала часто… а потом реже… а дали… с год… перестал… Сколько было горя! — словно простонала она и припала к ногам своего сына.
В хате стало тихо, как в могиле. Только муха где-то уныло жужжала и билась в сетях паука.
Время шло. Вдруг больной приподнялся, конвульсивно повел головой и, взмахнув руками, рухнулся вновь на подушку. Мать и знахарка к нему бросились, но он уже спокойно, неподвижно лежал с открытыми глазами, не видя и не чувствуя, как склонилось над ним дорогое, искаженное мукой лицо.
Читать дальше
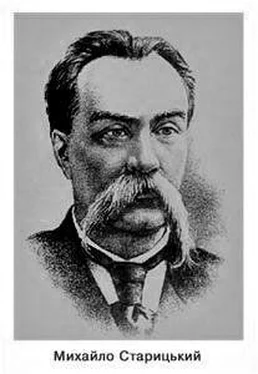

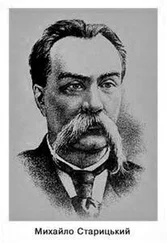
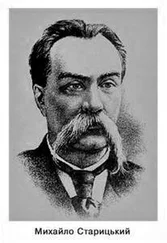

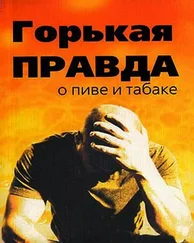

![Арсений Сухоницкий - Горькая правда жизни [СИ]](/books/390107/arsenij-suhonickij-gorkaya-pravda-zhizni-si-thumb.webp)