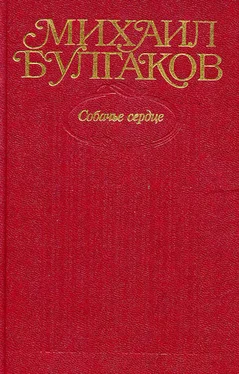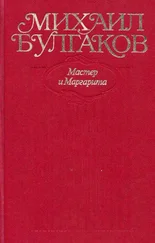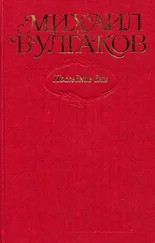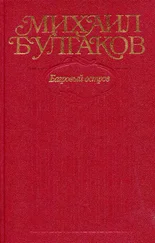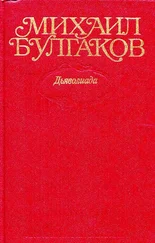С тех пор и фурункулы у меня.
Плакал ночью, вспомнив это.
12-го ночью.
И опять плак. К чему эта слабость и мерзость ночью?
1918 года 13 февраля на рассвете в Гореловке.
Могу себя поздравить: я без укола уже четырнадцать часов! Четырнадцать! Это немыслимая цифра. Светает мутно и беловато. Сейчас я буду совсем здоров?
По зрелому размышлению Бомгард не нужен мне, и не нужен никто. Позорно было бы хоть минуту длить свою жизнь. Такую — нет, нельзя. Лекарство у меня под рукой. Как я раньше не догадался?
Ну-с, приступаем. Я никому ничего не должен. Погубил я только себя. И Анну. Что же я могу сделать?
Время залечит, как пела Амнер. С ней, конечно, просто и легко.
Теперь Бомгарду. Все…»
На рассвете 14-то февраля 1918 года в далеком маленьком городке я прочитал эти записки Сергея Полякова. И здесь они полностью, без всяких каких бы то ни было изменений. Я не психиатр, с уверенностью не могу сказать, поучительны ли, нужны ли?
По-моему, нужны.
Теперь, когда прошло десять лет, — жалость и страх, вызванные записями, ушли. Это естественно, но, перечитав эти записки теперь, когда тело Полякова давно истлело, а память о нем совершенно исчезла, я сохранил к ним интерес. Может быть, они нужны… Беру на себя смелость решить это утвердительно. Анна К. умерла в 1922 г. от сыпного тифа, на том же участке, где работала. Амнерис — первая жена Полякова — за границей. И не вернётся.
Могу ли я печатать записки, подаренные мне?
Могу. Печатаю. Доктор Бомгард.
1927 г. Осень
Журнал «Медицинский работник 1927, № 45–47, за 9,17, 23 декабря
Рассказ автобиографический. Татьяна Николаевна Лаппа, вспоминая годы молодости, рассказывала М. О. Чудаковой: «…отсасывая через трубку дифтеритные пленки из горла больного ребенка, Булгаков случайно инфицировался и вынужден был ввести себе противодифтеритную сыворотку. От сыворотки начался зуд, выступила сыпь, распухло лицо. От зуда, болей он не мог спать и попросил впрыснуть себе морфий. На второй и третий день он снова попросил жену вызвать сестру, боясь нового приступа зуда и связанной с ним бессонницы. Повторение инъекций в течение нескольких дней привело к эффекту, которого он, медик, не предусмотрел из-за тяжелого физического самочувствия: возникло определенное привыкание организма к небольшим дозам морфия. Началась изнурительная внутренняя борьба с этой привычкой» (Москва, 1987, № 6).
Татьяна Николаевна героически сражалась с этой привычкой… И в конце концов победила!
Мне приснился страшный сон. Будто бы был лютый мороз, и крест на чугунном Владимире в неизмеримой высоте горел над замерзшим Днепром.
И видел еще человека, еврея, он стоял на коленях, а изрытый оспой командир петлюровского полка бил его шомполом по голове, и черная кровь текла по лицу еврея. Он погибал под стальной тростью, и во сне я ясно понял, что его зовут Фурман, что он портной, что он ничего не сделал, и я во сне крикнул, заплакав:
— Не смей, каналья!
И тут же на меня бросились петлюровцы, и изрытый оспой крикнул:
— Тримай його!
Я погиб во сне. В мгновение решил, что лучше самому застрелиться, чем погибнуть в пытке, и кинулся к штабелю дров. Но браунинг, как всегда во сне, не захотел стрелять, и я, задыхаясь, закричал.
Проснулся, всхлипывая, и долго дрожал в темноте, пока не понял, что я безумно далеко от Владимира, что я в Москве, в моей постылой комнате, что это ночь бормочет кругом, что это 23-й год и что уж нет давным-давно изрытого оспой человека.
Хромая, еле ступая на больную ногу, я дотащился к лампе и зажег ее. Она осветила скудость и бедность моей жизни. Я увидел желтые встревоженные зрачки моей кошки. Я подобрал ее год назад у ворот. Она была беременна, а какой-то человек, проходя, совершенно трезвый, в черном пальто, ударил ее ногой в живот, и женщина у ворот видела это. Бессловесный зверь, истекая кровью, родил мертвых двух котят и долго болел у меня в комнате, но не зачах, я выходил его. Кошка поселилась у меня, но меня тоже боялась и привыкала необыкновенно трудно. Моя комната находилась под крышей и была расположена так, что я мог выпускать ее гулять на крышу и зимой, и летом…
Она затосковала, увидя, что я поднялся, открыла глаза и стала следить за мною хмуро и подозрительно. Я глядел на потертую клеенку и растравлял свои раны. Я вспомнил, как двенадцать лет тому назад, когда я был юношей, меня обидел один человек и обида осталась неотомщенной. И мне захотелось уехать в тот город, где он жил, и вызвать его на дуэль. Тут же вспомнил, что он уже много лет гниет в земле и праха даже его не найдешь. Тогда, как злые боли, вышли в памяти воспоминания еще о двух обидах. Они повлекли за собою те обиды, которые я нанес сам слабым существам, и тогда все ссадины на душе моей загорелись. Я, тоскуя, посмотрел на провод. Он свешивался и притягивал меня. Я думал о безнадежности моего положения, положив голову на клеенку. Была жизнь и вдруг разлетелась, как дым, и я почему-то оказался в Москве, совершенно один в комнате, и еще на голову мою навязалась эта обиженная дымчатая кошка. Каждый день я должен был покупать ей на гривенник мяса и выпускать ее гулять, и кроме того, она рожала три раза в год, и всякий раз мучительно, невыносимо, и приходилось ей помогать, а потом платить за то, чтобы одного котенка утопили, а другого растить и затем умильно предлагать кому-нибудь в доме, чтобы взяли и не обижали.
Читать дальше