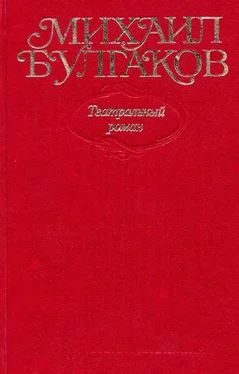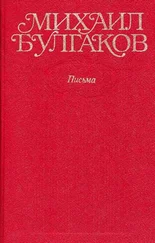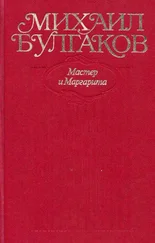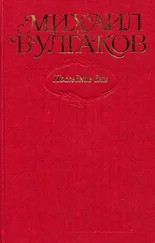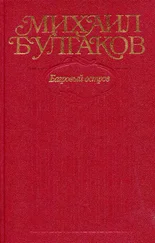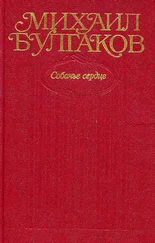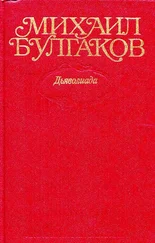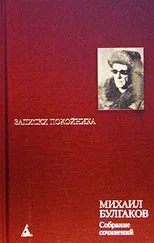Три недели репетиций пьесы окончательно убедили Максудова, пришедшего в отчаяние, в том, что он «усумнился в теории Ивана Васильевича». «Да, эта теория не была, очевидно, приложима к моей пьесе, а, пожалуй, была и вредна ей».
Максудов разочаровался в теории Ивана Васильевича, но, «иссушаемый любовью к Независимому театру, прикованный теперь к нему, как жук к пробке, я вечерами ходил на спектакли…»
Это последние слова неоконченного «Театрального романа». Естественно, возникает множество вопросов после того, как закрыл последнюю страницу романа… И прежде всего: неужто Иван Васильевич — это действительно Станиславский, а Аристарх Платонович — это Немирович-Данченко? Ведь столько наслышались о дружбе двух великих режиссеров, а вот о вражде почти ничего не было известно широкому читателю и зрителю. В. Топорков и многие другие театральные деятели сейчас вспоминают, что в образе Ивана Васильевича «есть некоторые черты самого Станиславского», а разногласия Станиславского и Немировича-Данченко по многим творческим и житейским вопросам подтверждаются их перепиской. Приведу лишь одно письмо Немировича-Данченко Станиславскому, которое относится к 10 ноября 1914 года: «…Вы сами так зарылись в путях, что потеряли цель. Не меняете ли Вы роль пророка на роль жреца? В путях к исканию Бога забываете его самого, потому что заняты исключительно обрядностями. А когда Бог нечаянно для Вас очутился около, — потому что он вездесущ и его пути неисповедимы, то Вы и не замечаете, не чувствуете. Утрачивая душевное или духовное чутье пророка, жрец, приемлет только то, что согласно с установленным им ритуалом» (Немирович-Данченко В. И. Письма, т. 2, М., 1979)
В большом, прекрасно одетом парижскими портными, «несколько полноватом» Измаиле Александровиче Бондаревском, который был «чист, бел, свеж, ясен, весел, прост», сразу внесшем суету и веселье, любящем поесть и выпить, рассказать сочный анекдот или скандальную историю из парижской жизни, легко угадывается действительно знаменитый писатель того времени. В Егоре Агапёнове, только что вернувшемся из Китая, — тоже знаменитая реальная личность. Егор Агапёнов советует Максудову почитать свою книгу «Тетюшанская гомоза», скромно добавляя: «Хорошая книга получилась». Максудов читал эту книгу, и она не понравилась ему, книга легковесна, натуралистична…
В дневнике Э. Ф. Циппельзона есть запись от 29 августа 1930 года: «Между прочим окончательно выяснил, что М. А. не любит Пильняка, не считает его, как я, большим художником. Как едко и зло он заметил, что в „Повести о непогашенной луне“ во время операции врачи моют руки сулемой, чего на самом деле никогда не бывает. (Булгаков по образованию врач.) На мое замечание, что это мелочь и такие ошибки встречаются даже у классиков, М. А. с несвойственным ему оживлением и многоречием в общественном месте (обыкновенно он упорно молчит) зло и долго говорил о Пильняке, называя его, Пильняка, косноязычным, не русским писателем: „Он не рассказывает, а дергает (такая бывает игрушка на веревочке)“, — ставя его гораздо ниже Вс. Иванова, которого, очевидно, М. А. очень ценит».
Не будем расшифровывать зашифрованные имена и фамилии. Особой в этом нет нужды [1] Желающие узнать тех, кто скрывается под вымышленными именами, могут посмотреть том 4 Собрания сочинений в пяти томах, Москва, Художественная литература, 1990, с. 665–667.
. Главное в том, что Максудов не приемлет тех, кто так легко и быстро приспосабливается к возникающим требованиям действительности, кто второпях, косноязычно, вываливает на свои страницы «непереваренные», неотсортированные куски действительности, выдавая все это за ее художественное исследование.
Сам Максудов, скромный журналист «Вестника пароходства», полон достоинства и уважения к избранной им профессии. С презрением он относится к тем, кто, вроде Ликоспастова, во всем видит что-то подводное и подспудное: «…ловок ты, брат… Как ты Рудольфи обработал, ума не приложу… А поглядеть на тебя — тихоня». Не художественные качества романа, не гражданская смелость редактора, а именно ловкость Максудова видится прежде всего в факте публикации романа, который, по его мнению, «напечатать нельзя, просто невозможно». А когда Ликоспастов узнал, что пьесу «Черный снег» будут играть на Главной, а не Учебной, сцене, то он сразу же «побледнел и тоскливо глянул в сияющее небо»… Здесь и зависть, и недоумение, а главное — какими уловками и хитростью обвел Максудов театральных работников, тут работаешь-работаешь, угождаешь-угождаешь, а ничего не получается… Так, и только так, можно понять характер этого приспособленца, который рядится в «тогу» писателя. Как противно стало в этом мире писателей начинающему Максудову.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу