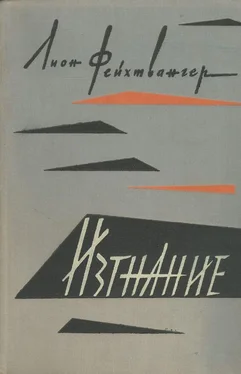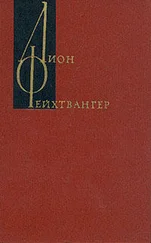Она и раньше говорила себе, что изгнание — это не краткий эпизод, проникнутый героизмом и пафосом, а долгие, медленно ползущие годы, наполненные мелкими неприятностями. Но к этому присоединились тысячи мытарств, о которых они в Германии и представления не имели. Сколько хлопот хотя бы с такой идиотской штукой, как удостоверение личности. Сроки их паспортов истекли, а третья империя не воз обновляет их. Сколько беготни, пока раздобудешь бумажку, на которой подтверждено и скреплено печатью, кто ты есть. Сколько часов надо простаивать у окошек, за которыми сидят брюзгливые, усталые чиновники, и мосье Дюпон отсылает тебя к мосье Дюрану, а мосье Дюран, оказывается, тут ни при чем и отсылает тебя к мосье Дюпону, и вся история начинается сызнова, а в результате обнаруживается, что дело твое в совершенно другом ведомстве. Получить постоянное разрешение на право работы почти невозможно; Анна работает у своего зубного врача без разрешения, «зайцем».
Пока они были в Германии, они и не знали, как хорошо им живется в их удобной квартире, как хорошо располагать солидным текущим счетом. Анна привыкла сводить абстрактные философские истины к простым формулам; пессимизм индийцев или Шопенгауэра, над которым долго бился Зепп и о котором он много рассказывал Анне, для нее укладывался в простую истину, что, если у тебя болит палец, ты страдаешь, но, если палец не болит, ты не испытываешь от этого радости. Этот лишенный всякой сентиментальности пессимизм теперь находил свое подтверждение в действительности. Прежде, в Германии, ей казалось естественным жить в довольстве, в изобилии. Теперь она не плачется на перемену, но ощущает ее на каждом шагу.
За дверью что-то царапается и шуршит, почтальон просовывает в щель письма. Траутвейн тотчас же бросается к ним, вскрывает их, читает — с многочисленными «гм» и «ага». Почта довольно обильная, но Анна знает, что только очень небольшая часть писем имеет личное отношение к Зеппу, все остальное — приглашения на политические собрания, просьбы о деньгах, о рекомендациях, эмигрантские дела. Как ни плохо тебе живется, а всегда найдутся люди, которые считают тебя богатым и счастливым.
Он весь уходит в чтение писем; об Анне он совершенно забыл. Дочитав письма, берется за газеты. Каждое утро эту страстную натуру волнует и забавляет глупость мира, выпирающая из газетных сообщений. Вот он опять что-то выудил. Он прищелкивает языком.
— Нет, ты только посмотри, Анна! — У него звонкий голос, а от радости он переходит на фальцет. — Уж это — дальше некуда! — Он протягивает ей «Берлинер иллюстрирте», показывая снимок на титульном листе: властители третьей империи слушают концерт. Музыка обезоружила их, лица у них пустые, тупые, сентиментальные. Великолепный снимок, он обнаруживает все существо этих людей; музыка обнажила их, все их жалкое нутро вывернуто наружу. Анна невольно смеется, смеется по-детски заразительно. Ее широкое лицо сияет. Когда Анна смеется, лицо ее молодеет.
— Сколько бы они ни обзаводились высокими чинами и званиями, а физиономии у них все те же, — замечает она.
Зепп Траутвейн продолжает ликующе:
— Да, им ничего не поможет, волей-неволей они сами выставляют напоказ свой позор. Этот снимок надо распространять, о нем надо писать. Я напишу, — решает он, загораясь, как юноша, весь — рвение и пыл. — Скажи-ка, — он уже готов приступить, — ты свободна? Можно продиктовать тебе статью?
Беда с этим Зеппом. Он опять забыл, что она, к сожалению, занята у доктора Вольгемута. А потом еще визит к Перейро, нельзя недооценивать такого дела, как радиопередача.
— С величайшим удовольствием отстукала бы тебе статью, — говорит она огорченно. — Мы, конечно, опять поругались бы. И все равно самые убийственные грубости я бы у тебя повычеркивала. Но Вольгемут, Перейро… — Она пожимает плечами, ее выразительное лицо живо отражает сожаление.
Он спохватывается.
— Ну конечно, ведь у тебя сегодня еще и визит к Перейро. Бессовестно, что я забыл, — горячо говорит он. Но в следующую минуту уже думает о другом. — Замечательная будет статья, — радуется он заранее.
Анна критически оглядывает пишущую машинку. Валик стерся, необходимо его заменить, да и еще кое-что не мешало бы исправить. Тут не только расходы: трудно обойтись без машинки, пока ее будут чинить.
Он тем временем встает и идет в ванную умыться и побриться. Бриться он не любит, Анна с трудом добилась, чтобы он брился каждый день. Вот и сейчас он охает. Оптимист и сангвиник, он, конечно, прежде всего бреет удобную поверхность щек. Затем остается самое трудное — углы рта. Надо сжать челюсти, запрокинуть голову и глядеть в оба.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу