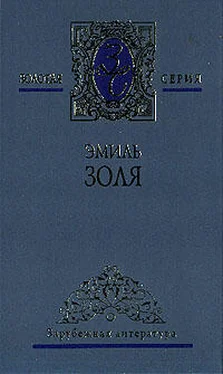И она сама удивилась, когда поймала себя на том, что машинально, в инстинктивной потребности скрыть смущение, отвечает тетушке Габэ:
— А, он женится на мадмуазель Клер… Она очень красивая и, говорят, очень добрая.
Нет, конечно, как только старушка уйдет, она побежит к Фелисьену! Довольно она ждала, она отбросит обещание не видеться с ним как докучное препятствие. По какому праву их разлучают? Все кричало Анжелике о любви: собор, свежие воды ручья, старые вязы, под которыми они любили друг друга. Здесь выросла их нежность, и здесь она хотела вновь соединиться с ним; они убегут далеко, так далеко, что никто и никогда не найдет их.
— Вот и все, — сказала наконец тетушка Габэ, повесив на куст последние салфетки. — Через два часа все высохнет… До свидания, мадмуазель, мне больше нечего делать.
Анжелика стояла среди разложенного на зеленой траве сверкающего белья и думала о том дне, когда дул буйный ветер, скатерти и простыни хлопали и улетали, когда их сердца простодушно отдались друг другу. Почему он перестал приходить к ней? Почему сейчас, в день бодрящей, веселой стирки, он не пришел на свидание? А между тем она твердо знала, что стоит ей только протянуть руки — и Фелисьен будет принадлежать ей одной. Не нужно даже упрекать его в слабости, стоит ей только появиться перед ним — и он вновь обретет волю бороться за их счастье. Да, нужно только увидеться с ним, и он пойдет на все.
Прошел час, а Анжелика все еще медленно ходила посреди разложенного белья. Под ослепительными отсветами солнца она и сама казалась бледной, как полотно; смутный голос пробудился в ней, говорил все громче, не пускал ее туда, к решетке епископства. Борьба пугала Анжелику. К ее ясной решимости примешивались вложенные извне понятия, которые смущали ее, мешали последовать с чудесной простотой за голосом страсти. Было так просто побежать к тому, кого любишь, но она уже не могла решиться на это, ее удерживало мучительное сомнение: ведь она поклялась, и, быть может, побежать к Фелисьену было бы очень дурно? Наступил вечер, белье высохло, Гюбертина пришла помочь унести его домой, а Анжелика все еще ни на что не решилась. Наконец она дала себе ночь на размышление. Унося огромную охапку благоухающего белоснежного белья, она обернулась и бросила беспокойный взгляд на уже темнеющий Сад Марии, словно прощаясь с этим уголком природы, отказавшимся дружески помочь ей. Наутро Анжелика проснулась в еще большей тревоге. Потом прошли еще другие ночи, не принося с собою ожидаемого решения. Девушку успокаивала лишь уверенность в том, что Фелисьен ее любит. Эта вера была непоколебима и бесконечно утешала ее. Раз он ее любит, значит, она может ждать, может вытерпеть все что угодно. Вновь ее охватила лихорадка благодеяний, малейшие горести людей волновали и трогали ее, слезы сами просились на глаза и ежеминутно готовы были пролиться. Дядюшка Маскар выпрашивал у нее табак, супруги Шуто дошли до того, что выуживали у нее сладости. Но в особенности пользовались ее милостями Ламбалезы: люди видели, как Тьенетта плясала на праздниках в платье доброй барышни. И вот однажды, отправившись к матушке Ламбалез с обещанной накануне рубашкой, Анжелика еще издали увидела, что около жилища нищенок стоит сама г-жа Вуанкур с дочерью Клер и сопровождавшим их Фелисьеном. Разумеется, он и привел их сюда. Сердце ее похолодело, она не показалась им на глаза и сейчас же ушла. Через два дня она увидела, как они втроем зашли к супругам Шуто; потом дядюшка Маскар рассказал ей, что у него был прекрасный молодой человек с двумя дамами. И тогда Анжелика забросила своих бедняков: они уже не принадлежали ей. Фелисьен отнял их у нее и отдал этим женщинам. Она перестала выходить из дому, боясь встретить Вуанкуров и еще хуже растравить мучительную, все еще терзавшую ее сердце рану. Она чувствовала, что в ней что-то умирает, что сама жизнь капля за каплей уходит от нее.
И однажды вечером, после одной из таких встреч, задыхаясь от тоски в своей уединенной комнате, Анжелика наконец воскликнула:
— Он больше не любит меня!
Она мысленно видела высокую, красивую, с короной черных волос Клер де Вуанкур и рядом с ней его, стройного, гордого! Разве они не созданы друг для друга? Разве они не одной породы? Разве не подходят они друг к другу так, что уже сейчас можно подумать, что они женаты?
— Он меня больше не любит, он не любит меня!
Эти слова оглушили ее грохотом обвала. Ее вера рассыпалась в прах, все рушилось в ней, и она уже не находила сил, чтобы спокойно рассмотреть и обдумать факты. Только что она верила — и вот уже не верит; налетел откуда-то порыв ветра, и унес все, и бросил ее в пучину отчаяния: она нелюбима. Когда-то Фелисьен сам сказал ей, что это — самое страшное горе, самое отчаянное мучение. До сих пор она могла покорно терпеть, потому что ждала чуда. Но ее сила исчезла вместе с верой, и она, как дитя, забилась в горестной муке. Началась мучительная, скорбная борьба.
Читать дальше