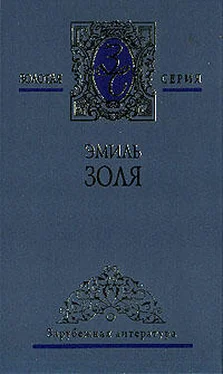Эмиль Золя - Разгром
Здесь есть возможность читать онлайн «Эмиль Золя - Разгром» весь текст электронной книги совершенно бесплатно (целиком полную версию без сокращений). В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Город: Москва, Год выпуска: 1957, Издательство: Правда, Жанр: Классическая проза, на русском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:Разгром
- Автор:
- Издательство:Правда
- Жанр:
- Год:1957
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:4 / 5. Голосов: 2
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 80
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Разгром: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Разгром»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
Разгром — читать онлайн бесплатно полную книгу (весь текст) целиком
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Разгром», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
Сейчас же после оккупации старуха Делагерш заперлась вместе с ним. Они, наверно, с первых же слов поняли друг друга раз навсегда, твердо решив оставаться взаперти в этой комнате, пока из дома Делагерша не выедут пруссаки. Многие прусские офицеры провели здесь две-три ночи, но капитан фон Гартлаубен все еще не уезжал. Впрочем, ни полковник, ни старуха больше никогда не говорили об этих делах. Хотя старухе было уже семьдесят восемь лет, она вставала с зарей, приходила к полковнику, усаживалась в кресло напротив него, по другую сторону камина, и при немигающем свете лампы вязала чулки для бедных детей, а полковник никогда ничего не делал, смотрел остановившимся взором на огонь, как будто жил и умирал с некоей единственной мыслью, и все больше цепенел. Они не обменивались и десятком слов в день: каждый раз, когда она, обойдя весь дом, пыталась сообщить полковнику какую-нибудь новость из внешнего мира, он молча, движением руки, останавливал ее; и теперь сюда ничего больше не проникало из далекой жизни, никакие известия об осаде Парижа, ни о поражениях французов на Луаре, ни о повседневных страданиях, вызванных нашествием пруссаков. Но как ни прятался полковник от дневного света в своем добровольном заточении, как ни затыкал уши, — весь ужас катастрофы, вся смертельная скорбь неизбежно проникали к нему сквозь щели вместе с воздухом, которым он дышал, и с каждым часом больному становилось все хуже, словно его губила тайная отрава.
Между тем Делагерш, нимало не смущаясь ярким дневным светом, со свойственной ему живучестью метался, стараясь снова открыть фабрику. Пока еще не хватало рабочей силы и заказчиков, и ему удалось пустить в ход только несколько станков. Чтобы занять чем-нибудь свой печальный досуг, он задумал составить полный инвентарь фабрики и подготовить усовершенствования, о которых он давно мечтал. Для помощи в этом деле у него под рукой оказался молодой человек, попавший к нему после сражения под Седаном. Это был сын его покупателя, Эдмон Лагард, выросший в Пасси, при галантерейной лавчонке отца, сержант 5-го линейного полка, лет двадцати трех, а на вид — восемнадцати. Он сражался геройски, ожесточенно, до самого конца боя, и часов в пять у ворот дю Мениль ему перебило руку одной из последних пуль; он вернулся в Седан; Делагерш, даже после того как из фабричных амбаров вывезли раненых, по доброте своей оставил его у себя. Эдмон вошел в семью Делагершей, ел, пил, спал, жил у них; он выздоровел и, в ожидании возможности вернуться в Париж, служил у Делагерш а секретарем. Благодаря покровительству Делагерша прусские власти оставили Эдмона в покое, взяв с него обещание оставаться в Седане. Это был голубоглазый блондин, женственный, красивый и такой застенчивый, что при каждом слове краснел. Эдмона воспитала мать, выбиваясь из сил, чтобы из жалких доходов от своей торговли платить за его обучение в школе. Он обожал Париж и с тоской говорил о нем в присутствии Жильберты, а она по-товарищески ухаживала за этим раненым херувимом.
К обитателям дома Делагершей прибавился еще один жилец — капитан прусского запаса, фон Гартлаубен, полк которого заменил в Седане воинскую часть действующей армии. Несмотря на скромный чин, капитан оказался важной шишкой: его дядя был генерал-губернатор, жил в Реймсе и пользовался неограниченной властью над всем округом. Как и Эдмон, капитан фон Гартлаубен кичился тем, что жил в Париже, что любит его, знает правила парижской вежливости и утонченные парижские вкусы; он корчил из себя безукоризненно воспитанного человека, скрывая под внешним лоском природную грубость. Этот холостяк, всегда затянутый в мундир, скрывал свой возраст и был в отчаянии, что ему сорок пять лет. Будь он умней, он мог бы стать опасным, но благодаря непомерному тщеславию он был вечно доволен собой, не допуская и мысли, что может быть смешон.
Впоследствии он оказался для Делагерша настоящим спасителем. А в первое время после капитуляции какие пришлось пережить тяжелые дни! Седан, подвергшийся нашествию, переполненный немецкими солдатами, трепетал, опасаясь грабежей. Но войска победителей отхлынули к долине Сены; остался только гарнизон, и в городе воцарилась могильная тишина: все дома были на запоре, лавки закрыты, улицы пусты уже с наступлением сумерек; слышались только тяжелые шаги и хриплые окрики патрулей. Больше не приходила ни одна газета, ни одно письмо. Седан стал замурованным застенком; жители были внезапно отрезаны от всего мира и томились неведением и тоскливым предчувствием новых несчастий. В довершение всех бед стал угрожать голод. Однажды Седан проснулся без хлеба, без мяса; весь край был разорен, словно опустошен налетевшей саранчой: ведь уже неделю здесь катился разлившийся поток — сотни тысяч немцев. В городе оставалось съестных припасов только на два дня; пришлось обратиться в Бельгию; теперь все привозили оттуда через открытую границу; таможня исчезла, ее тоже унесло катастрофой. И в довершение всего — вечные притеснения: каждый день возобновлялась борьба между прусской комендатурой, поместившейся в префектуре, и французским муниципальным советом, постоянно заседавшим в ратуше. Как ни спорил совет, героически сопротивляясь, уступая только шаг за шагом, — жители изнывали от все возраставших требований пруссаков, от произвола и чрезмерно участившихся реквизиций.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «Разгром»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Разгром» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «Разгром» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.