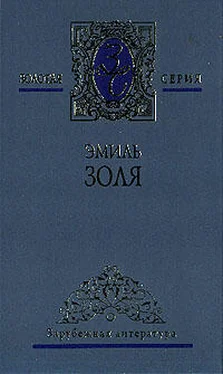— Двести!.. Тебе, франт, всегда выпадают большие номера!
Пружина «фортунки» скрипела, красная кукла под стеклянным колпаком, изображавшая Фортуну, вертелась, сливаясь в круглое, мутное, словно винное пятно.
— Триста пятьдесят!.. Да ты сам, что ли, залез туда, прохвост ты этакий?.. Ну, нет, баста! Больше не играю.
Жервеза тоже заинтересовалась «фортункой». Она хлопала водку стакан за стаканом и уже называла Сапога «сыночком». За ее спиной, с глухим рокотом подземного ручья, продолжала работать адская машина, и Жервеза приходила в бешенство оттого, что не могла ни остановить ее, ни вычерпать до дна. Глухой гнев охватывал ее, ей хотелось броситься на этот огромный змеевик, как на какого-то зверя, топтать его каблуками, пробить ему брюхо. Все смешалось перед ее глазами: Жервеза увидела, как машина зашевелилась, почувствовала, как медные лапы схватили ее, а спиртной ручей потек прямо по телу.
Потом зал заплясал, газовые рожки задрожали, потянулись нитями, словно звезды. Жервеза была пьяна в стельку. Она слышала бешеный спор между Соленой Пастью и этим мазуриком, дядей Коломбом. Не хозяин, а обдирала, жила, прохвост. Настоящий разбойник с большой дороги! Вдруг началась свалка, раздался какой-то рев, с грохотом полетели столы. Это дядя Коломб, нимало не церемонясь, вышвыривал компанию за порог. Они топтались перед дверью, выкрикивая что-то пьяными голосами, осыпая его неистовой бранью. Дождь все еще моросил, дул холодный ветер. Жервеза потеряла Купо, нашла его и снова потеряла. Ей хотелось поскорей очутиться дома, она шла, ощупывая стены, чтобы не сбиться с дороги. Внезапно наступившая темнота удивляла ее. На углу улицы Пуассонье она упала в канаву и решила, что попала в прачечную. Вода, лившаяся со всех сторон, сбивала ее с толку, ей делалось дурно от воды. Наконец Жервеза добрела до своего дома и шмыгнула мимо дворницкой. Там за столом сидели Лорилле и Пуассоны; заметив, до чего она дошла, они брезгливо поморщились.
Она и сама не могла потом вспомнить, как взобралась на седьмой этаж. Когда она вошла в коридор, крошка Лали, услышав ее шаги, бросилась ей навстречу, ласково протягивая руки, смеясь и говоря:
— Жервеза, папа не вернулся. Посмотрите, как спят мои детки… Ах, какие они милочки!
Но, увидев отупевшее лицо прачки, Лали вздрогнула и отшатнулась. Она знала, что означает запах винного перегара, мутные глаза, судорожно сведенный рот. Жервеза, спотыкаясь, не произнося ни слова, прошла мимо, а девочка, стоя на пороге своей комнаты, молча следила за ней черными серьезными глазами.
Нана взрослела, становилась девушкой-подростком. К пятнадцати годам она налилась, как яблоко, пополнела, побелела, стала пухлой, точно пышка. Да, пятнадцать лет, крепкие зубы, и ликаких корсетов. Свежее личико — кровь с молоком, кожа бархатистая, как персик, задорный носик, розовые губки и такие блестящие глаза, что мужчинам хотелось закурить от них трубку. С густых белокурых волос, цвета свежей соломы, казалось, слетала на виски золотистая пудра веснушек, и лицо Нана было словно в лучистом венке. «Да, недурна штучка! — говорили Лорилле. — Девчонку еще надо учить уму-разуму, а плечи у нее уже округлились, как у зрелой женщины».
Теперь Нана уже не подкладывала под корсаж комки бумаги. У нее развилась грудь, юная грудь, словно покрытая белым атласом. И это ничуть не смущало ее, она радовалась этому, ей хотелось иметь пышный бюст кормилицы, — так жадна и нерассудительна юность. Но особенно соблазнительной выглядела дурная привычка выставлять между белыми зубами кончик языка. Вероятно, разглядывая себя в зеркале, она нашла, что это ей идет, и с тех пор целый день ходила, высунув язык, чтобы выглядеть покрасивее.
— Да спрячь ты своего вруна! — кричала ей мать.
Часто приходилось вмешиваться и самому Купо. Он стучал кулаком, ругался и кричал:
— Уберешь ты свой красный лоскут или нет?
Нана была большой кокеткой. Ноги она мыла не слишком часто, зато носила такие узкие ботинки, что испытывала ужасные мучения; и если кто-нибудь замечал, как она бледнеет, и спрашивал, что с ней, то она, не желая признаться в своем кокетстве, жаловалась на колики. В доме не хватало хлеба, и наряжаться ей было нелегко. Но Нана делала настоящие чудеса: она таскала ленты из мастерской и придумывала себе наряды, — затасканные платья она украшала бантиками и помпончиками. Летом она торжествовала. По воскресеньям, надев перкалевое платьице ценой в шесть франков, она весь день гуляла по улицам, и о белокурой красотке говорил весь квартал Гут-д'Ор. Да, ее знали всюду: от внешних бульваров до укреплений и от шоссе Клиньянкур до Гранд-рю де-ла-Шапель. Ее называли «курочкой», потому что и в самом деле она была свежа и миловидна, как курочка.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу