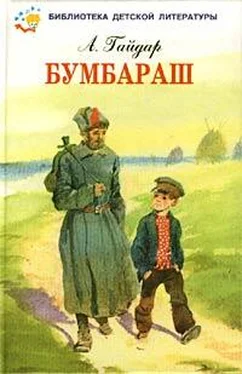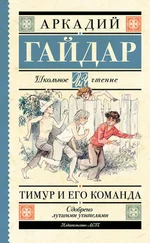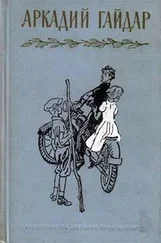Рыжебородый монах ухмыльнулся, подвинул свои короткие ноги в лаптях к огню и покачал плешивой, круглой, как тыква, головой.
— А ты не осуждай! — строго оборвал его рассказчик. — Ты раньше послушай, что дальше было. Вот стоим мы единожды у малой вечерни с каноном. Служба уже за середку перевалила: уже из часослова «Буди, господи, милость твоя, яко же на тя уповаем» проскочили. Вдруг заходит брат Симон, видать — выпивши, и становится тихо у правого крылоса.
А надо сказать, что крепко-накрепко было игуменом наказано, что если брат Симон не в себе — не допускать в храм спервоначалу увещеванием, а ежели не поможет, то гнать прямо под зад коленкой.
И как он смело через дверь прошел — уму непостижимо. А от крылоса гнать его уже неудобно. Шум будет. Стою я и думаю: «Ну, господи, только бы еще не облевал!»
А служба идет своим чередом. Только возгласили ирмос: «Ты же, Христос, господь, ты же и сила моя», как наверху треснет, как крякнет! Стекла, как дождь, на голову посыпались. А у нас снаружи на лесах каменщики работали. Возьми леса да и рухни! Одно бревно, что под купол подводили, как грохнуло через окно и повисло ни туда ни сюда. Висит, качается… Как раз над правым приделом. А сорвется (а под ним икона) — все сокрушит вдрызг. Мы, братья, конечно, кто куда, в стороны. Смалодушествовали…
Вдруг видим, брат Симон — к алтарю, да по царским вратам, с навеса на карниз, да от того места, где нынче расписан сожской великомученицы Дарьи лик, — и пошел, и пошел…
Карниз узкий — только разве кошке пробраться, а он лицом к стене оборотился, руки расставил — в движениях легкость такая, как бы воспарение. Сам поет: «Тебя, бога, славим». И пошел, и пошел… Господи! Смотрим — чудо в яви: добрался он до окна, чуть бревно подтолкнул, оно и вывалилось наружу. Постоял он, обернулся, видим — качается. Вдруг как взревет он не своим голосом да как брякнется оттуда о пол! Тут он и богу душу отдал. Так потом сколько верующих на леса к тому карнизу лазили! Один купец попытался. «Дай, говорит, я ступлю». Ступил раз-два да на попятную… «Нет, говорит, бог меня за плечи не держит… Аз есмь человек, но не обезьяна, а в цирке я не обучался». Дал на свечи красненькую и пошел восвояси.
Рыжебородый опять покачал головой и усмехнулся.
— Чего же ты ухмыляешься? — сердито спросил черный.
— Да так… сияние… воспарение… Вот, думаю, заставил бы Долгунец всех нас подряд с колокольни прыгать — поглядел бы я тогда, какое оно бывает, воспарение… Господи, помилуй! Кто там?
Тут оба монаха враз обернулись, потому что из-за кустов выполз лохматый, рваный, похожий на черта Бумбараш.
— Мир вам, — подвигаясь к костру, поздоровался Бумбараш. (Слышал я нечаянно ваш рассказ. У нас на деревне в старину с цыганом тоже вроде этого случилось.)
— И тебе тоже, — ответил рыжебородый. — Говори, чего надо? Если ничего, то проваливай дальше.
— Земля широка, — подхватил другой. — Места много… а мы тебя к себе не звали.
На коленях у рыжебородого лежал тяжелый посох, а рука черного очутилась возле горящей с одного конца головешки.
— Мне ничего не надо, — злобно ответил Бумбараш. — Глядим мы с товарищами — горит огонь. Говорят мне товарищи: «Пойди узнай, что там за люди и что им здесь на нашей земле надо».
Монахи в замешательстве переглянулись.
— Садись, — поспешно освобождая место у костра, предложил чернобородый. — А кто же твои товарищи и на чью землю мы попали?
Бумбараш усмехнулся. Он развязал сумку, достал оттуда позолоченную пачку табаку — такого, какого давно в этих краях и в глаза не видали. Свернул цигарку и только тогда неторопливо ответил:
— А земля эта вся на пять дорог — Россошанскую, Семикрутовскую, Михеевскую, на Катремушки и до Мантуровских хуторов — дана во владение нашему разбойничьему атаману, храброму Ивану Иванюку (над которым нет другого начальника, кроме самого преславнейшего Долгунца).
Монахи еще в большем замешательстве переглянулись. Рыжебородый опрокинул вскипевший чайник, черный быстро глянул на свои пожитки, тоже собираясь сейчас же вскочить и задать тягу.
И только похожий на черта Бумбараш важно сидел, поджав ноги, выпуская из носа и рта клубы пахучего дыма, и был теперь очень доволен (что он так ловко поджал хвосты негостеприимным монахам).
— Ты скажи им, — медленно подбирая слова, заговорил чернобородый, — что мы с братом Панфилием двое странствующие. Добра у нас (никакого) нет — вот две котомки да это (он показал на черный сверток)… монашья ряса — от брата нашего Филимона, который скончался вчера, свалившись в каменоломную яму, и был сегодня погребен. А через это задержались мы и не дошли, где бы постучаться на ночлег. И скажи, что тут бы пробыть нам только до рассвета. А чуть свет пойдут, мол, они с божьей помощью дальше.
Читать дальше