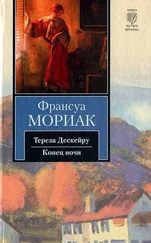Лошади свернули на дорогу, тянувшуюся вдоль парка и приводившую к воротам заднего двора. Нет, конечно, невозможно, чтобы трагические сцены, сочиненные Дени, обдуманные им до мелочей, воплотились в действительность. Дени прекрасно знал, что пророческого дара не существует. Под колесами шуршал гравий, этот знакомый с детства звук всегда был связан с радостью каникул. Будь Дени музыкантом и вздумай он сочинить ту оперу, о которой мечтал Пьер Костадо, он именно в этом шорохе искал бы лейтмотив увертюры. Фонари экипажа освещали разрушенную кое-где ограду парка, над которой деревья вздымали свои черные ветви. На них еще трепетали обрывки сухих листьев, а ветви тянулись, словно руки, то с мольбой, то с угрозой. Прильнув лицом к застекленной дверце, Дени с жадностью впивал успокаивающую ласку сумерек. Вокруг все как будто спало спокойным сном, и казалось, здесь в тишине ночей никогда ничего не случается. О боже! Неужели вымысел обратился в действительность? Неужели перед ним предстала картина, созданная в воображении? Во всех окнах горел свет, и такой яркий, что Дени сперва подумал: «Пожар!» Перед мокрыми от дождя ступенями крыльца в большой луже отражались огни. Жюльен пробормотал:
— Что-то случилось…
Мадам Револю все повторяла слова своей молитвы:
— Сделай так, чтобы этого не было!.. Сделай так, чтобы он этого не сделал!..
Дени подумал о том, что сейчас он увидит покойника; обязательно придется смотреть на него, а он еще никогда не видел покойников, и от одной мысли о том, что ему предстоит увидеть, у него кровь заледенела в жилах. Встретив на улице катафалк, где под крышкой гроба, под погребальным покровом лежало нечто невидимое, но страшное, он спешил свернуть в ближайший переулок. Он так боялся мертвецов, что, бывая в Леоньяне, никогда не входил один в пустующую комнату, в которой умер его дед — в том году, когда Дени еще лежал в колыбели. Иной раз он осмеливался приоткрыть двери и, просунув голову, заглянуть в этот полумрак, где царила глубокая тишина, пахло лаком и левкоями; он подолгу всматривался в широкую кровать, на которой уже давно никто не спал, на это смертное ложе, где свершилась ужасная тайна. Складки полога, ниспадавшие из-под балдахина, и каждая вещь со своего места видели то, что здесь произошло. Стенные часы были остановлены в ту самую минуту, когда перестало биться сердце старика. И оттого, что все вещи в этой комнате как-то были причастны к агонии умирающего, к его переходу в небытие, они приобрели особое, таинственное значение, ибо при них побывала здесь страшная гостья — смерть… Нет, нет, ведь смерть — это что-то непостижимое, безликое. Можно вступить в сговор с дьяволом, можно столковаться с самым страшным чудовищем… Но смерть — это ужас небытия, несуществования; ее назначение — уничтожить, стереть с лица земли. Вот спинка кровати, полог, кресла, часы, зеркало, столик, покрытый зеленоватой ковровой скатертью, — их захлестнула волна вечности и, отхлынув, оставила на них пенные струи небытия.
Дени, для которого было целым событием войти в комнату, где в год его рождения умер человек, теперь уже не сомневался, что он сейчас увидит отца мертвым, в той самой позе, которую дорогой рисовало ему воображение: самоубийца сидит неподвижно, упав головой на стол, или же мертвое тело распростерто на постели…
* * *
И вот один за другим сбывались его вымыслы. Управляющий Кавельге, поджидавший их, знаками велел кучеру остановиться у ворот. И говорил он как раз то, что Дени заранее вкладывал в его уста!..
— Приехала полиция. Пока не разрешают трогать тело. Бригадир сначала хочет расспросить вдову… Представьте себе, никто не слышал выстрела. Сейчас все хлопоты легли на мсье Ландена…
Все четверо Револю стояли у обочины дороги. Шлейфы бальных платьев, выглядывавшие из-под темных накидок, волочились по лужам. Свет от фонарей коляски и ручного фонаря, который покачивал в руках Кавельге, выхватывал из темноты четыре бледных лица, открывал тайную сущность четырех сердец. Люсьенна уже замыкалась в своем горе, уже окружала себя им, как защитным укреплением; теперь она имела право ничем не заниматься, отдаться своим страданиям; она совсем разбита своими муками, никто не может за это ее осуждать. Жюльен, лишившийся всего, что служило ему опорой в этом мире, стал просто жалок: существо без возраста, с покатым лбом и большой плешью, с трясущимся подбородком, растерянный близорукий человек, потерявший свой монокль; он с ужасом смотрел на Кавельге, говорившего ему:
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу