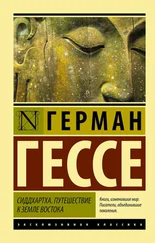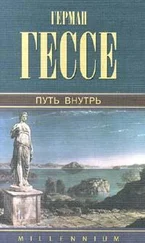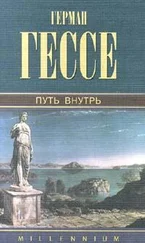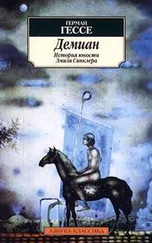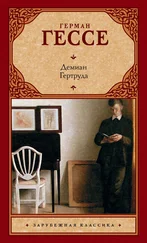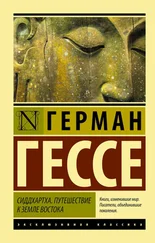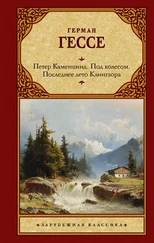– А-а, ну да.
– Потому-то нет для меня ничего прекраснее ночного фейерверка. Тогда в воздух летят ракеты, синие и зеленые, поднимаются высоко во тьму и, как раз когда они краше всего, описывают небольшую дугу и гаснут. Наблюдая за этим зрелищем, радуешься и в то же время боишься: вот сейчас все кончится! Это взаимосвязано и куда прекраснее, чем если бы все продолжалось дольше. Согласен?
– Пожалуй. Но применимо опять-таки не ко всему.
– Отчего же?
– Например, если двое любят друг друга и женятся или если два человека заключают дружбу, это как раз оттого и прекрасно, что не кончится сей же час, а продлится долго.
Кнульп пристально посмотрел на меня, потом, взмахнув черными ресницами, задумчиво проговорил:
– Верно. Но и этому приходит конец, как и всему. Многое может погубить дружбу, да и любовь тоже.
– Конечно, только ведь никто об этом не думает, пока оно не случится.
– Не знаю… Видишь ли, я в жизни любил дважды, в смысле по-настоящему, и оба раза твердо верил, что любовь у меня навсегда и перестанет лишь со смертью, но оба раза все кончилось, а я не умер. И друг у меня тоже был, еще дома, в родном городе, и я никак не думал, что жизнь разведет нас в разные стороны. Тем не менее, мы разошлись, и уже давно.
Он умолк, а мне сказать было нечего. Я покамест не изведал горькой муки, неизбежно таящейся в человеческих взаимоотношениях, не узнал покамест, что меж двумя людьми, сколь бы тесно они ни были связаны друг с другом, всегда зияет пропасть, и только любовь способна перекинуть через нее утлый мостик, да и то лишь изредка и ненадолго. Размышлял я о давешних словах моего товарища, из которых мне больше всего пришлись по сердцу рассуждения о фейерверках, ведь я и сам порой испытывал сходные чувства. Безмолвно манящие цветные огни, взмывающие во тьму и слишком скоро в ней тонущие, представлялись мне символом всех человеческих желаний, которые, чем они прекраснее, тем меньше исполняются и тем быстрее угасают. Так я Кнульпу и сказал.
Но он не стал развивать эту мысль. Обронил только:
– Да-да. – И лишь через некоторое время негромко добавил: – Мечты и помышления не имеют ценности, да люди и не поступают так, как думают, наоборот, каждый шаг совершают, в сущности, совершенно безрассудно, просто по зову сердца. Хотя с дружбой и любовью, пожалуй, дело обстоит именно так, как я говорил. В конечном счете у каждого есть что-то сугубо свое, чем невозможно поделиться с другими. Это видно, когда человек умирает. Все тогда плачут и скорбят, день, месяц, а то и год, но затем усопший как бы исчезает, без следа, и в его гробу вполне мог бы лежать какой-нибудь безродный и безвестный подмастерье.
– Не по душе мне это, Кнульп. Мы ведь часто говорили, что в конце концов жизнь должна иметь смысл и главное для человека – быть добрым и благожелательным, а не дурным и враждебным. А как ты сейчас говоришь, выходит, все едино, и мы точно так же могли бы воровать и убивать.
– Нет, голубчик, не могли бы. Попробуй убей первых встречных, коли сможешь! Или потребуй от желтого мотылька стать голубым. Он тебя засмеет.
– Я не о том. Но коли все едино, то какой смысл быть добропорядочным? Ведь раз голубой все равно что желтый, а злой все равно что добрый, добропорядочности просто не существует. Тогда каждый ровно зверь в лесу и поступает по своей натуре и притом не имеет ни заслуги, ни вины.
Кнульп вздохнул.
– Н-да, что тут скажешь? Может, все и так, как ты говоришь. Но тогда нередко и по этой причине глупо огорчаешься, поскольку чуешь, что желания наши ничего не значат и все идет своим путем совершенно без нас. Однако вина оттого никуда не девается, пусть даже человек попросту не мог не быть дурным. Он же чувствует ее в себе. Потому-то доброе заведомо правильно, ведь тогда остаешься удовлетворен и совесть у тебя чиста.
По его лицу я видел, что он наскучил этими разговорами. С ним часто так бывало: он углублялся в философствования, составлял суждения, высказывался за них и против и вдруг прекращал. Раньше я полагал, что ему надоедали мои невразумительные ответы и реплики. Но тут было другое, он чувствовал, что склонность к отвлеченным рассуждениям уводила его туда, где ему недоставало познаний и слов. Конечно, он весьма много читал, в том числе Толстого, только вот не всегда мог в точности отличить истинные умозаключения от ложных и сам это чувствовал. Об ученых он говорил так, как одаренный ребенок говорит о взрослых: поневоле признавал, что у них больше власти и средств, нежели у него, но презирал их, оттого что использовали они их бестолково и при всех своих знаниях и умениях не могли разрешить загадок.
Читать дальше