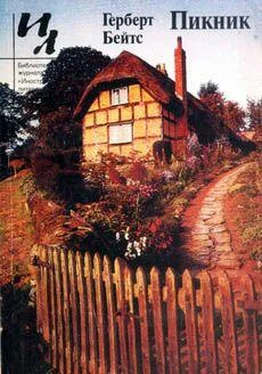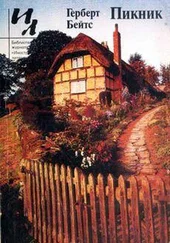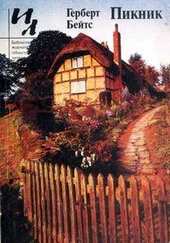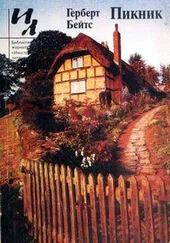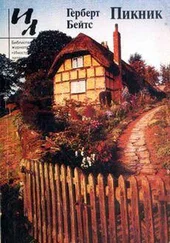— Все. Теперь валяйте дуйте со всей силы, мисс. Приготовились… Раз, два, три!
Пальчик дунула что было мочи, из глотки геликона вырваля резкий грубый звук: «Апчхи!» — и полетел как издевка и вызов в ночную тьму.
— Превосходно, — одобрила Картошка. — Сам архангел Гавриил не сумел бы лучше. Как вам наш новый трубач, мистер Эккерли?
— Мистера Эккерли тут больше нет, — говорит Фред Сандерс. — Вы его сдули отсюда в царствие небесное.
— Ах, какая обида! — огорчается Пальчик. — Ушел и забыл свою маринованную тыкву.
Внезапный, молчаливый уход мистера Эккерли послужил сигналом для нового тройного взрыва жизнерадостного смеха, а затем Фреду была налита еще одна «самая капелька» виски. Он поднял рюмку и пожелал хозяйкам «счастливого Рождества и здоровья на долгие годы». Они ответили ему тем же. И расцеловали его в обе щеки, особенно горячо — Пальчик, так что форменная оркестрантская фуражка сбилась набекрень и надпись про «об-во трезвенности» утратила свое центральное положение.
— Ну ничего не поделаешь, мне пора, — говорит Фред. — А то я их ввек не догоню.
— До свиданья, Фред. Рады были тебя повидать. Счастливого Рождества!
— До свиданья, Фред, — повторяет и Пальчик. — Как это у нас говорится?
— Не страшны нам вражьи силы, вот как у нас говорится. Геликон, словно серебряный призрак, проплыл по саду и исчез во тьме. Картошка и Пальчик остались стоять на освещенном пороге бомбоубежища. Они молча смотрели в небо. Время смеха прошло.
— Возблагодарим наши счастливые звезды, душечка Пальчик, как у нас с тобой заведено.
В молчании они подняли рюмки к звездам.
— Все-таки как-то жутко думать, что видишь своими глазами вечность, правда, Картоша?
Снова заиграл духовой оркестр, совсем далеко, и над городом разлился радостный рождественский благовест.
— Правда. Но ведь и мы с тобой тоже, по-моему, немножко принадлежим вечности.
Он был всю жизнь перекати-поле. Поживет в одном месте, потом его потянет куда-нибудь еще; летом наймется в гостиницу на побережье подсобным рабочим на кухню, или кладовщиком, или коридорным, а зимой опять откочует в глубь острова.
Коренастый, маленького роста, он казался не то чтоб дурачком, а, как говорят, с придурью: на вид простоватый, молчаливый, но работник каких поискать, с сильными, ловкими, крепкими руками. Почти не брал в рот спиртного и один из немногих в среде бродяжьей братии сроду не играл на скачках: может быть, потому, что за всю свою жизнь так и не научился читать и писать и, конечно, сразу же запутался бы в кличках лошадей.
Одному богу ведомо, откуда у него взялось это чудное прозвище — Пей-Гуляй. Вот уж кому оно никак не подходило. Его можно было дать только в насмешку. Пей-Гуляй — это кто-то совсем другой: шутник и балагур, любитель пива, вечно с хмельным прищуром, всегда окружен друзьями, и сам черт ему не брат. У него же почти не было друзей, да и врагов, кстати, тоже, а шутить он и вовсе не шутил.
В сорок лет с небольшим он нанялся подручным в загородную гостиницу «Герб Монтегью». Гостиница была большая, эдакий замок под английское барокко, сплошь обшитый дубовыми панелями и увешанный сверкающими алебардами, гербами, латами, кольчугами и шлемами, портретами маслом никому не ведомых господ в костюмах эпохи Тюдоров. Номера огромные, ледяные, неуютные. Посетители невольно понижали голос до шепота, а если кто-то произносил фразу обычным голосом, то казалось, что он сердится, даже кричит.
То ли по этой причине, то ли оттого, что здешняя кухня кулинарными изысками не отличалась, народу в ресторане бывало немного. Поэтому гостиничная обслуга томилась от безделья и никогда подолгу не задерживалась, как нигде не задерживался Пей-Гуляй.
Однажды в субботу, теплым июльским вечером, вскоре после того, как он туда нанялся, официант, разносящий вино, имел неосторожность поскользнуться с полным подносом рюмок в коридоре на каменных плитах пола. Падая, он выбросил вперед руку, раздавил рюмку, и стекло перерезало вену.
А в ресторане было необычно много посетителей, наверное, потому, что вечер выдался на удивление теплый и ясный. Одной официантке при виде крови стало дурно, она весь вечер просидела в саду, ее била дрожь, вино разносить было некому, и тут вдруг кто-то вспомнил — да ведь есть же Пей-Гуляй! Фрачная пара, в которую его обрядили, была ему явно велика, воротничок манишки широк, как хомут, он в этом одеянии казался даже не чудным, а дурковатым. Нескладный, растерянный, чучело чучелом.
Читать дальше