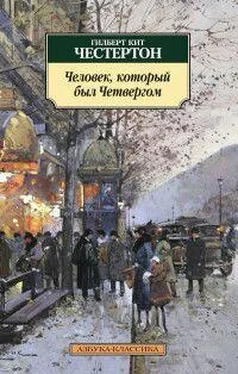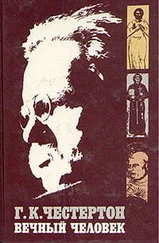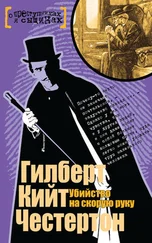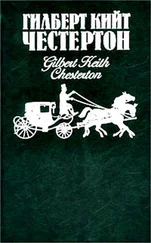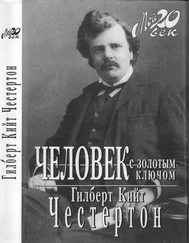– Как вы все преувеличиваете! – звонко сказал инспектор Рэтклиф. – Воскресенье, не спорю, крепкий орешек, но он вовсе не такое несуразное чудище. Он принял меня в обычной конторе, средь бела дня, и был на нем самый прозаичный серый в клеточку костюм. Говорил он со мной обычно; но, признаюсь, что-то жуткое в нем все-таки есть. Комната его убрана, костюм опрятен, но сам он – рассеян. Иногда он глядит в пустоту, иногда забывает о тебе. А дурной человек слишком страшен, чтоб быть рассеянным. Мы представляем злодея бдительным. Мы не смеем представить, что он искренне и честно задумался, ибо не смеем представить его в одиночестве. Рассеянный человек добродушен; если он заметит вас, он попросит прощения. Но как стерпеть того, кто, заметив вас, покончит с вами? Вот это и невыносимо – рассеянность вместе с жестокостью. Люди в девственных лесах нередко ощущали, что звери и невинны, и безжалостны. Они не увидят вас, а если увидят – убьют. Хотелось бы вам провести часов десять с рассеянным тигром?
– А вы что думаете о Воскресенье? – спросил Сайм у Гоголя.
– Я вообще не могу о нем думать, – просто ответил Гоголь. – Не могу же я смотреть на солнце.
– Что ж, верно и это… – задумчиво заметил Сайм. – А вы что скажете, профессор?
Тот шел понуро, волоча за собой палку, и не ответил.
– Очнитесь! – сказал Сайм. – Что вы думаете о Воскресенье?
– Того, что я думаю, – медленно начал профессор, – мне не выразить. Точнее, я не могу это как следует понять. Скажу хотя бы так: смолоду я жил широко, как живет богема. И вот когда я увидел лицо Воскресенья, оно показалось мне слишком широким – нет, это видят все, скажу иначе: слишком расплывчатым. Нельзя было охватить его взором, нельзя понять, лицо ли это. Глаз слишком далеко отстоял от носа. Рот был сам по себе, и о нем приходилось думать отдельно. Нет, не могу объяснить!
Он помолчал, все так же волоча палку, и начал снова:
– Скажу иначе. Проходя как-то вечером по улице, я увидел человеческое лицо, составленное из фонаря, окна и облака. Если хоть у кого-нибудь на свете именно такое лицо, я сразу его узнаю. Но, пройдя подальше, я понял, что лица и не было: окно светилось в десяти ярдах, фонарь – в доброй сотне, облако – на небе. Так ускользает от меня лицо Воскресенья; оно разбегается в стороны, как случайная картина. Лицо его вселило в меня сомнение – а есть ли вообще лица? Быть может, доктор, один круг ваших гнусных очков совсем близко, а другой – за пятьдесят миль. Сомнения материалиста не стоят и гроша. Воскресенье научил меня худшим, последним сомнениям – сомнениям идеалиста. Наверное, я буддист; буддизм же – не вера, а сомнение. Бедный мой друг, – сказал он Буллю, – я не знаю, есть ли у вас лицо. Я не решаюсь верить в то, что вижу.
Сайм смотрел на воздушный шар, розовевший в лучах заката словно иной, более невинный мир.
– Заметили вы одну странность? – спросил он. – Каждый видит его по-разному, но каждый сравнивает с мирозданием. Булль узнает в нем землю весной, Гоголь – солнце в полдень, Секретарь – бесформенную протоплазму, инспектор – беспечность диких лесов, профессор – изменчивый ландшафт города. Все это странно, но еще страннее то, что сам я тоже думаю о нем и тоже сравниваю его с мирозданием.
– Идите быстрее, Сайм, – сказал доктор Булль. – Не забудьте, шар летит быстро.
– Когда я впервые увидел Воскресенье, – медленно продолжал Сайм, – он сидел ко мне спиною, и я понял, что хуже его нет никого на свете. Затылок его и плечи были грубы, как у гориллы или идола. Голову он наклонил, как бык. Словом, я чуть не решил, что это – зверь, одетый человеком.
– Так… – сказал доктор Булль.
– И тут случилось самое странное, – сказал Сайм. – Спину я видел с улицы. Но я поднялся на балкон, обошел спереди и увидел его лицо в свете солнца. Оно испугало меня, как пугает всех, но не тем, что грубо, и не тем, что скверно. Оно испугало меня тем, что оно так прекрасно и милостиво.
– Сайм, вы в себе? – вскричал Секретарь.
– Он показался мне Архистратигом, вершащим правый суд после битвы, – продолжал Сайм. – Смех был в его глазах, честь и скорбь – на устах. И белые волосы, и серые плечи остались такими же. Но сзади он походил на зверя; увидев его спереди, я понял, что он – бог.
– Пан был и богом, и зверем, – сказал профессор.
– И тогда, и позже, и всегда, – говорил Сайм как бы себе самому, – это было и его тайной, и тайной мироздания. Когда я вижу страшную спину, я твердо верю, что дивный лик – только маска. Когда я хоть мельком увижу лицо, я знаю, что спина – только шутка. Зло столь гнусно, что поневоле сочтешь добро случайным: добро столь прекрасно, что поневоле сочтешь случайным зло. Особенно сильно я это чувствовал вчера, когда мы за ним гнались и я всю дорогу был сзади.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу