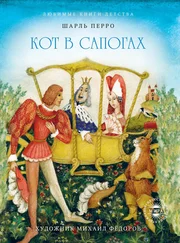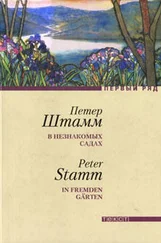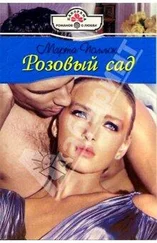Очень многое можно и нужно писать о творчестве Бабича, создавшего истинные произведения искусства, но всегда будет оставаться что-то, не охваченное нами до конца, не уловленное в нашем слове, о чем смогут сказать только сами его произведения.
Н. Васильева
КАЛИФ-АИСТ
(Жизнеописание Элемера Табори)
Хочу собрать воедино записки, касающиеся моей жизни. Кто знает, сколько еще у меня времени? Шаг, на который я решился, быть может, окажется роковым. Медленно, неотвратимо тает ночь. Придет миг, когда он явится, черный Сон, подкрадется на цыпочках, словно убийца, и бесшумно станет за моей спиной. Ладонями внезапно зажмет мне глаза. И тогда я уже не буду принадлежать себе. Тогда со мною может случиться все что угодно.
Я хочу собрать воедино записки, касающиеся моей жизни, прежде чем еще раз усну.
Я записывал все с величайшей точностью. Моя жизнь была похожа на сон, а сновидения казались явью. Моя жизнь была прекрасна, как сон; ах, лучше бы она была несчастливой, зато сны — прекрасными!
…Это началось в год моего шестнадцатилетия.
Странности случались и прежде. Впрочем, ничего особенного: их вполне можно было счесть ребяческими выдумками, и только. Например, столярная мастерская. Я проходил мимо нее ежедневно, по дороге в школу. Часто останавливался под ее узким окном. Мастерская казалась темной, и постепенно в моей фантазии она стала местом каких-то таинств. Без всякой на то причины я вообразил, что там, под скромной вывеской столярной мастерской, орудуют ужасные злодеи, фальшивомонетчики, может быть, даже убийцы, они мучают безвинных мальчиков… таких, как я. Я настолько уверовал в это, что заразил своей верой и некоторых моих сотоварищей, мы основали даже самое настоящее секретное «общество доктора Холмса», чтобы проникнуть в тайну. Общество, как и тайна, распалось само собой, но я и после того всякий раз вздрагивал, когда из окна столярни в нос ударял запах клея — он был мне как-то непонятно знаком, этот запах, как будто я сам долго жил и томился в такой мастерской…
А между тем я рос в дворянской семье, был богат и считался лучшим учеником в гимназии.
Вот только были в классе двое… они отчего-то вызывали во мне странное чувство…
Вообще я весьма возвышался над моими школьными товарищами. Меня любили, мной восхищались, ибо я был хорош собой и ловок, умней и сильней, чем они, красиво одет, у меня всегда водились карманные деньги, а главное — я не обращал на них ни малейшего внимания и ни во что не ставил их дружбу. Я был поистине Sonntagskind: [1] Буквально: дитя солнца (нем.), т. е. счастливчик; родившийся под счастливой звездой.
меня все баловали, везде и всюду провожали восторженными взглядами, и я, с младенчества купаясь во всеобщей любви и обожании, в сущности вовсе не знал цену любви, был приветлив со всеми, но ни к кому не тянулся всерьез. Зато тем больше тянулись ко мне, каждый ревниво старался подойти поближе, коснуться моей руки, а, например, сутулый тихий Иван Хорват был откровенно в меня влюблен.
Его-то я все же терпел около себя: он учился классом старше и был умен, я любил с ним пофилософствовать, давал читать французские книжки и время от времени требовал отчета:
— Как, ты все еще на пятнадцатой странице!
Я знал, он учит французский только затем, чтобы не позориться передо мной.
— Тебе-то легко, — жаловался он, когда я так его припирал. — Тебя бонна учила чуть не с пеленок.
— Ах, оставь, чему можно научиться у бонны? Просто хоть несколько книг надобно проштудировать со словарем.
Я страстно любил книги. Хотел все понять, все знать, отворить перед своим интеллектом все двери. И презирал остальных, кому чужды были подобные стремления. Я понимал и считал естественным их преклонение перед собой, хотя оно тяготило меня. Догадывался, конечно, что причиняю боль тому, к кому равнодушен, кого не могу вознаградить за проявление чувств, — однако мое равнодушие и беспечное высокомерие лишь возрастали. Недоброжелательства во мне не было, больше того, я был способен и на сердечность и на любовь к ближнему, но ощущал себя сильным, и моя сердечность не желала оказаться сестрой слабости.
Читать дальше