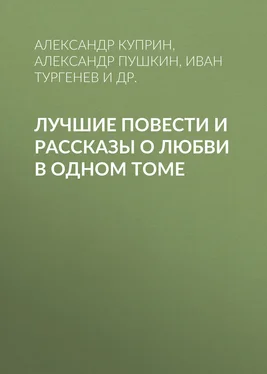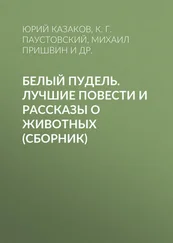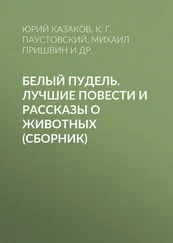Случайно его взгляд упал на шкатулку: она, как была ночью вытащена из-под кровати, так и лежала, раскрытая, на середине комнаты. Возле валялись лист газетной бумаги и конец английского шпагата, которым были обмотаны деньги.
Аларин в один миг, точно кто толкнул его, с поразительною ясностью припомнил до мельчайших подробностей картину своей последней ставки: грязная комната, совершенно залитая ослепительно-яркими лучами холодного зимнего солнца, десяток желтых лиц, нагнувшихся над столом с хищно сверкающими глазами, проклятая пятерка червей с надломленным углом и спокойный, ненавистный голос, медленно произносящий: «Больше не мечу… Не угодно ли, господа, кому-нибудь занять мое место?» Аларин вспомнил еще, как он тотчас же после этого бессмысленно рассмеялся и начал хвастливо уверять, что хотя он и проиграл уже одиннадцать тысяч, но что ему «наплевать» и что сильные ощущения даром не даются… Но этот деревянный смех и эти нелепые слова принадлежали не ему, не Аларину, а как будто совершенно чужому, незнакомому человеку; настоящий же Аларин слушал с трепетом самого себя, между тем как истерические спазмы душили его горло. Игроки, толпившиеся вокруг стола, глядели на его судорожную развязность, близкую к умопомешательству, с тем холодным и вполне безучастным любопытством, с которым некогда смотрели римские гладиаторы на смерть своих товарищей.
Потом откуда-то появилось шампанское, кого-то поздравляли и кричали «ура». Каждый из присутствующих с жадностью пил, точно желая забыться от долгого созерцания целых ворохов кредиток, переходивших в одно мгновение из рук в руки.
Пил и Аларин… Он теперь, точно сквозь сон, вспоминал, как с пьяными слезами он лез целовать Круковского и божился, больно ударяя себя в грудь кулаком, что проиграл казенные деньги, а Круковский с неожиданно вспыхнувшим взором резко оттолкнул его и сказал: «Ты бы, братец, домой ехал спать, а не болтал пустяков!» Затем все впечатления слились, перед глазами заколыхался какой-то синий туман, и больше он ничего не помнил.
Пока все эти бессвязные сцены проносились перед глазами Аларина, он сидел в оцепенении на своей кровати и, не отрываясь, глядел в угол. Какая-то громадная тяжесть обрушилась на него, завладела всем его существом и сковала ледяным холодом ужаса все его нервы, все умственные способности… Это было состояние, похожее на кошмар, когда человек чувствует, что ему что-то надо сделать, бежать или крикнуть, но язык онемел, ноги не могут шевелиться, а грозящая опасность надвигается все ближе и ближе.
– Что же это такое? – растерянно шептал Аларин, вперяя в какую-то далекую точку свой неподвижный, точно стеклянный взгляд. – Неужели все, все пропало? И честь, и молодость, и свобода!.. Неужели мне, Александру Егоровичу Аларину, такому славному и красивому молодому человеку, на которого всегда с удовольствием заглядывались женщины, – неужели мне теперь всякий писарь, всякий уличный бродяга может сказать в глаза: «Ты – вор! Да, ты – вор, потому что украл казенные деньги»? Да нет же, нет! Это – неправда! Я никогда чужой копейкой не воспользовался; я, когда еще мальчишкой был, куска сахару не брал без спросу… я – не вор! Вор крадет из нужды или из нежелания работать, вор крадет каждый день, и если его выбрасывают из общества, то это так и нужно, потому что иначе никто спокойно не мог бы спать. Разве я похож на вора? На меня только вчера нашло проклятое затмение, но я остался тот же, мне ничто не мешает жить со всеми и приносить свою долю пользы… Не смейте отворачиваться от меня! О Господи, помоги же мне, помоги! Устрой так, чтобы все это был сон, ужасный… ужасный сон! Я сейчас проснусь… все окажется по-прежнему… Ну вот, я просыпаюсь…
И, жадно ухватившись за последнюю мысль, он, как безумный, кинулся к шкатулке, вывернул на пол все заключавшиеся в ней бумаги и письма и принялся перерывать их дрожащими руками. Ему на глаза попалась прежде всего довольно толстая, перевязанная розовой атласной лентой пачка, заключавшая в себе целую любовную эпопею в письмах, начиная от официально-любезного приглашения к обеду и кончая теми лаконически страстными записками, поспешно набросанными неочиненным карандашом на первом попавшемся лоскутке, содержание которых не решится прочесть вслух самый испорченный человек. Все эти письма со следами слез и чернильных брызгов, пропитанные тонким запахом духов и написанные безобразнейшим почерком, принадлежали перу одной хорошенькой вдовы, очень эксцентричной и непостоянной особы, два года до безумия любившей Александра Егоровича, чтобы потом сменить его на капельмейстера гвардейского полка, которого, в свою очередь, заменил красавец бас из архиерейских певчих. Аларин часто, с тайной и сладкой грустью вспоминая прошедшее, любил перечитывать эти послания, но теперь они вдруг показались ему такими ничтожными до пошлости, что, внезапно обозлившись, он с силой швырнул всю пачку под кровать. Он заглядывал в такие уголки шкатулки, где не только не могли уместиться одиннадцать тысяч рублей, но было трудно спрятать простой почтовый конверт. Холодный пот выступил уже давно на его лбу, ноги затекли и сильно болели, а он все стоял на коленях перед шкатулкой, в десятый раз переворачивая высыпанные вещи. Его действия были похожи на движения утопающего, который судорожно, но тщетно ищет руками какой-нибудь твердой точки.
Читать дальше