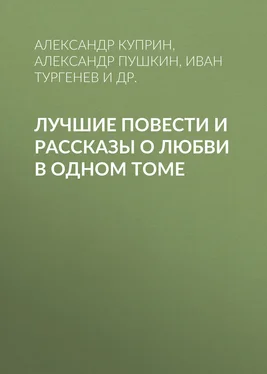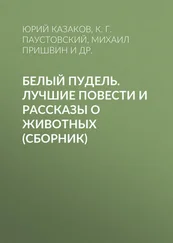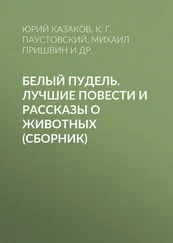Впереди и сзади нас двигались экипажи всех родов, времен и калибров. По бокам скакали всадники и амазонки. Граф Карнеев, облеченный в зеленый охотничий костюм, похожий более на шутовской, чем охотничий, согнувшись вперед и набок, немилосердно подпрыгивал на своем вороном. Глядя на его согнувшееся тело и на выражение боли, то и дело мелькавшее на его испитом лице, можно было подумать, что он ездил верхом впервые. На спине его болталась новенькая двустволка, а на боку висела сумка, в которой ворочался подстреленный кулик.
Украшением кавалькады была Оленька Урбенина. Сидя на вороном коне, подаренном ей графом, одетая в черную амазонку и с белым пером на шляпе, она уже не походила на ту девушку в красном, которая несколько месяцев тому назад встретилась нам в лесу. Теперь в ее фигуре было что-то величественное, «гран-дамское». Каждый взмах хлыстом, каждая улыбка – все было рассчитано на аристократизм, на величественность. В ее движениях и улыбках было что-то вызывающее, зажигательное. Она надменно-фатовски поднимала вверх голову и с высоты своего коня обливала все общество презрением, словно ей нипочем были громкие замечания, посылаемые по ее адресу нашими добродетельными дамами. Она бравировала и кокетничала своим нахальством, своим положением «при графе», словно ей было неизвестно, что она уже надоела графу и что последний каждую минуту ждал случая, чтоб отвязаться от нее.
– Меня граф хочет прогнать! – сказала мне она с громким смехом, когда кавалькада выезжала со двора, – стало быть, ей было известно ее положение, и она понимала его…
Но к чему же громкий смех? Я глядел на нее и недоумевал: откуда у этой лесной мещанки могло взяться столько прыти? Когда она успела научиться так грациозно покачиваться на седле, гордо шевелить ноздрями и щеголять повелительными жестами?
– Развратная женщина – та же свинья, – сказал мне доктор Павел Иваныч. – Когда ее сажают за стол, она и ноги на стол…
Но это объяснение слишком просто. Никто не мог быть так пристрастен к Ольге, как я, и я первый готов был бы бросить в нее камень; но смутный голос правды шептал мне, что то была не прыть, не бахвальство сытой, довольной женщины, а отчаянность, предчувствие близкой и неизбежной развязки.
Мы возвращались с охоты, на которую отправились с самого утра. Охота вышла неудачна. Около болот, на которые мы возлагали большие надежды, мы встретили компанию охотников, которые объявили нам, что дичь распугана. Нам удалось отправить на тот свет трех куликов и одного утенка – вот и все, что выпало на долю десятка охотников. В конце концов у одной из амазонок разболелись зубы, и мы должны были поспешить обратно. Возвращались мы прекрасной дорогой по полю, на котором желтели снопы недавно сжатой ржи, в виду угрюмых лесов… На горизонте белели графская церковь и дом. Вправо от них широко расстилалась зеркальная поверхность озера, влево темнела Каменная Могила…
– Какая ужасная женщина! – шептала мне Наденька всякий раз, когда Ольга равнялась с нашим шарабаном. – Какая ужасная! Она столько же зла, сколько и красива… Давно ли вы были шафером на ее свадьбе? Не успела она еще износить с тех пор башмаков, как ходит уже в чужом шелку и щеголяет чужими бриллиантами… Не верится даже этой странной и быстрой метаморфозе… Если уж у нее такие инстинкты, то была бы хоть тактична и подождала бы год, два…
– Торопится жить! Ждать некогда! – вздохнул я.
– А знаете, что делается с ее мужем?
– Говорят, пьянствует…
– Да… Папа третьего дня был в городе и видел, как он откуда-то ехал на извозчике. Голова, знаете ли, набок, шапки нет, на лице грязь… Погиб человек! Бедность, говорят, страшная: есть нечего, за квартиру не заплачено. Бедная девочка Саша по целым дням сидит не евши. Папа описал все это графу… Но ведь вы знаете графа! Он честный, добрый, но не любит задумываться и рассуждать. «Я, говорит, пошлю ему сто рублей». Взял и послал… Я думаю, что большего оскорбления нельзя было нанести Урбенину, как послать ему денег… Он оскорбится этой графской подачкой и станет пить еще больше…
– Да, граф глуп, – сказал я. – Он мог бы послать эти деньги через меня и от моего имени.
– Он не имел права посылать ему денег! Имею ли я право кормить вас, если я вас душу и вы меня ненавидите?
– Это правда…
Мы умолкли и задумались… Мысль о судьбе Урбенина была для меня всегда тяжела; теперь же, когда перед моими глазами гарцевала погубившая его женщина, эта мысль породила во мне целый ряд тяжелых мыслей… Что станется с ним и с его детьми? Чем в конце концов кончит она? В какой нравственной луже кончит свой век этот тщедушный, жалкий граф?
Читать дальше