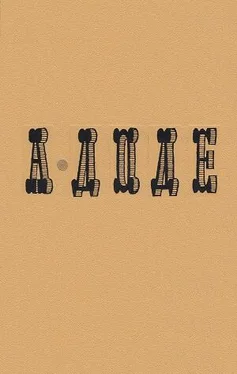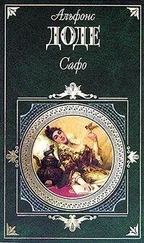Затем наступило затишье: быть может, на них в конце концов успокоительно подействовало обволакивающее тепло природы, а быть может, всего-навсего соседство Эттема. Дело в том, что из всех супругов, живших под Парижем, никто, пожалуй, так не наслаждался деревенским привольем, как они, никто так не ценил блаженство донашивать старье, ходить в соломенных шляпах, блаженство женщины — не надевать корсета, блаженство мужчины — ходить в матерчатых туфлях, блаженство по выходе из-за стола выносить уткам хлебные крошки, а кроликам — очистки, блаженство полоть грядки, орудовать граблями, делать прививки, поливать.
Ах, поливка, поливка!..
Как только супруг, вернувшись со службы, менял чиновничий мундир на костюм Робинзона, муж и жена немедленно принимались за поливку. После обеда опять начиналась поливка, и когда уже воцарялась ночь, из темного садика, дышавшего свежими испарениями влажной земли, все еще доносился скрип насоса, стук ударяющихся одна о другую больших леек, мощное сопение, перекочевывавшее от грядки к грядке, плеск воды, которая, казалось, стекала со лба неутомимых тружеников в сито леек, и — время от времени — торжествующие возгласы:
— Я вылил тридцать два на сахарный горох!..
— А я четырнадцать на бальзамины!..
Этим людям недостаточно было быть счастливыми — каждый из них любовался счастьем другого, и при виде того, как они умеют им наслаждаться, у вас слюнки текли от зависти. Особенно вкусно рассказывал муж, как хорошо им было зимовать тут вдвоем:
— Сейчас еще что! А вот вы увидите, как здесь в декабре!.. Приезжаете грязный, мокрый, тащите на себе всякую парижскую чепуху, а дома у вас топится печечка, горит лампочка, вы втягиваете в себя дивный запах горячего супа, а под столом вас ждут туфли с соломенными стельками. Ну, а потом, когда вы скушаете сосиски с капусткой и швейцарского сыру, который мы храним в холодном месте, завернутым в тряпочку, да запьете винцом, неразбавленным и неподкрашенным, до чего приятно придвинуть кресло к огню, закурить трубочку и попивать кофе с ликерчиком, а затем, сидя друг против дружки, вздремнуть маленько под шум дождя!.. Но только самую малость, чтобы дать перевариться пище… Затем немножко почертишь, а жена в это время убирает со стола, хлопочет по хозяйству, стелет постель, кладет грелку, ложится первая, и вот когда ты прыгаешь на тепленькое местечко и укрываешься простыней и одеялом, во всем теле такое ощущение, будто тебя завернули в вату…
Этот бородатый великан с тяжелой нижней челюстью, обычно до того застенчивый, что он двух слов не мог выговорить, не покраснев и не заикнувшись, обретал дар красноречия, как только разговор заходил о вещах материальных.
Этой безумной застенчивости, составлявшей комический контраст с его черной бородой и фигурой колосса, он был обязан своей женитьбой и душевным спокойствием. В двадцать пять лет он был сильным, здоровым юношей, но все еще не знал любви, не знал женщин, и вот однажды, в Невере, после сытного ужина приятели, воспользовавшись тем, что он подвыпил, затащили его к девицам и заставили сделать выбор. Он вышел оттуда потрясенный, потом опять пошел туда, выбрал опять ту же, заплатил за нее выкуп и увел к себе, а потом, из страха, что ее могут у него отнять и ему придется еще кого-то завоевывать, женился на ней.
— Вот тебе, дорогой мой, законный брак!.. — торжествующе смеясь, говорила Фанни Жану, который слушал ее с ужасом. — И из всех известных мне браков этот еще самый чистоплотный, самый добропорядочный.
Фанни утверждала это со всей искренностью своего неведения: семейные дома, куда ей удавалось проникать, конечно, с ее точки зрения, иной оценки и не заслуживали. Да и все ее представления о жизни были не менее ложны и не менее искренни.
Так они жили под умиротворяющим воздействием соседства супругов Эттема, всегда ровных, способных даже оказать услугу, только не обременительную, больше всего на свете боявшихся скандалов, ссор, в которых, хочешь не хочешь, пришлось бы принять участие, — словом, всего, что могло повредить нормальному пищеварению. Супруга попробовала научить Фанни разводить кур и кроликов, соблазнить ее целебной прелестью поливки, но из этого ничего не вышло.
Возлюбленная Госсена, уроженка парижской окраины, прошедшая через мастерские художников, любила выезды на природу, любила гулять за городом, любила природу за то, что там можно шуметь, валяться на траве, уединиться с кавалером. Она ненавидела усилия, труд. Шесть месяцев, которые она прослужила в меблированных комнатах, надолго истощили ее жизнедеятельность, и теперь на нее накатила разнеживающая оцепенелость полусна, ее пьянило это блаженное состояние, пьянил чистый воздух, пьянил настолько, что ей лень было одеться, лень причесаться, лень поднять крышку фортепьяно.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу