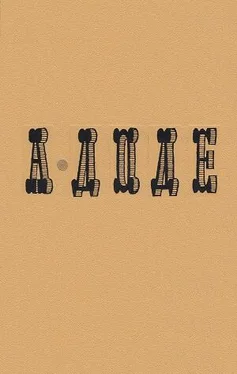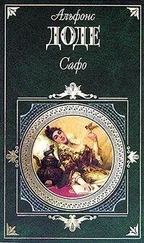В меблированных комнатах она сказала про него: «Это мой родственник…» И, прикрываясь этим расплывчатым наименованием, он мог кое-когда провести вечерок в гостиной, за тысячу миль от Парижа. Он познакомился с семьей перуанцев с бесчисленными перуаночками в безвкусных, кричащих туалетах, — когда они рассаживались кругом всей гостиной, то напоминали длиннохвостых попугаев на жердочках; слушал, как фрейлейн Мина Фогель играет на убранной лентами цитре, напоминавшей увитую хмелем тычину; смотрел на ее брата, больного, говорившего шепотом, порывисто качавшего головой в такт музыке и пробегавшего пальцами по воображаемому кларнету — единственному инструменту, на котором ему не запрещалось играть. Госсен играл в вист с пресловутым голландцем — толстым, лысым, неприятным увальнем, изъездившим все океаны. Когда голландца расспрашивали об Австралии, где ему довелось прожить несколько месяцев, он, вращая глазами, отвечал вопросом на вопрос: «Угадайте: почем в Мельбурне картофель?..» Где бы он ни был, его везде поражало только одно: дороговизна картофеля.
Душой этих сборищ была Фанни: она беседовала, пела, разыгрывала роль светской, обо всем осведомленной парижанки. То же, что оставалось в ней от богемы, от натурщицы, чужеземцы или вовсе не улавливали, или же считали проявлением высшего шика. Она козыряла знакомством с известными художниками и писателями, рассказывала одной русской даме, увлекавшейся Дежуа, как он писал свои романы, сколько чашек кофе выпивал за ночь, называла точную смехотворную сумму, которую нажившиеся на его «Сандеринетте» издатели уплатили автору этого замечательного произведения. Успех Фанни в обществе наполнял Госсена гордостью до такой степени, что он даже не ревновал ее, и если бы кто-нибудь поставил ее сведения под сомнение, он, не задумываясь, постарался бы доказать ее правоту.
Он любовался ею в этой мирной гостиной, освещенной лампами с абажурами, любовался тем, как она разливает чай, как она аккомпанирует перуаночкам, как на правах старшей сестры дает им советы, и в то же время ощущал особую, острую прелесть в том, чтобы представить ее себе сейчас совсем иною: вот она приходит к нему в воскресенье утром, продрогшая, мокрая от дождя, и вместо того чтобы подойти к камину, который всегда растапливается к ее приходу, поспешно раздевается у широкой кровати и, юркнув под одеяло, прижимается к своему возлюбленному. А затем объятия и долгие поцелуи вознаграждали их за все неприятности, приключившиеся на прошлой неделе, за разлуку, животворившую их любовь.
Часы шли, путались в сознании. Любовники лежали в постели до вечера. Вне этого их ничто не занимало, ничто не радовало, они никого не видели, даже Эттема, ради экономии переехавших за город. Около них стоял нетронутый легкий завтрак. К ним, в их небытие, долетал шум парижского воскресного дня, шлепавшего по уличной грязи, свистки паровозов, громыхание колес по мостовой. И только дождь, барабанивший по цинковому навесу над балконом, да частый стук их сердец подчиняли известному ритму этот уход от жизни с потерей всякого представления о времени, длившийся до самых сумерек.
Напротив них зажигали газ, по стене скользил бледный луч. Пора вставать — в семь часов Фанни должна быть на месте. В комнатном полумраке она надевала так и не высохшие ботинки, белье, платье экономки — черную форменную одежду бедных женщин, и все, что накипало у нее за неделю, подступало ей сейчас к горлу.
Особенно горько ей было смотреть на любимые вещи, на мебель, на маленькую туалетную, напоминавшую о счастливых днях…
Наконец она отрывалась от него:
— Пойдем!..
Чтобы подольше побыть вместе, Госсен провожал ее. Тесно прижавшись друг к другу, они медленно шли по авеню Елисейских Полей — ее фонари, выстроившиеся в два ряда, встававшая из мрака Триумфальная арка вверху, редкие звездочки, проколовшие край небосвода, все это составляло как бы фон диорамы. На углу улицы Перголезе, около пансиона, Фанни поднимала вуалетку для последнего поцелуя и уходила, а он оставался один, растерянный, ненавидевший в эту минуту свое обиталище, куда он старался вернуться как можно позднее, он проклинал свою бедность и готов был упрекать родных в том, что ради них пошел на эту жертву.
Фанни и Жан влачили такое существование еще около трех месяцев, и под конец оно стало совершенно невыносимым, тем более что Жану пришлось сократить свои посещения меблированных комнат, чтобы заткнуть рот прислуге, а Фанни окончательно выводила из себя скупость мамаши и дочки Санчес. Она лелеяла мечту вновь соединиться со своим возлюбленным в уютной их квартирке, чувствовала, что он изнемогает так же, как и она, но ждала, чтобы он заговорил об этом первый.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу