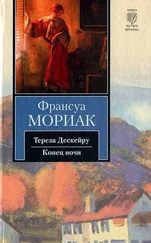* * *
В то время как на улице Раймон облегчал свою душу всевозможными ругательствами, какими бы он хотел, но не осмелился осыпать Марию Кросс, молодая женщина закрыла двери, закрыла окно и легла. Высоко над деревьями какая-то птица то и дело издавала прерывистый зов, подобный невнятным вскрикам спящего человека. Предместье полнилось звоном трамваев, гудками; улицы оглашали песни подвыпивших субботних гуляк. Однако Марию Кросс душила тишина — тишина, которая подступала к ней не извне, а поднималась из самой глубины ее существа, скоплялась в пустой комнате, наполняла дом, сад, город, мир. И посреди этой удушающей тишины жила она, созерцая в себе пламя, внезапно лишенное всякой пищи и все-таки не угасавшее. Чем питался этот огонь? Она вспомнила, как, бывало, на исходе ее одиноких бдений черные головешки в очаге, который она считала погасшим, озарялись последней вспышкой. Она искала обожаемое лицо мальчика из шестичасового трамвая и не находила его.
Теперь это был просто дрянной, злой мальчишка, одуревший от робости и сам себя подстегивающий, — образ настолько же далекий от истинного Раймона, как и тот, что был приукрашен ее любовью. Она ополчилась против того, кого сама же преобразила и обоготворяла: «И из-за этого паршивого юнца я то страдала, то возносилась на седьмое небо...» Мария не знала, что этому незрелому подростку довольно было одного ее взгляда, чтобы превратиться в мужчину, чье коварство, чьи ласки и грубость со временем испытают на себе многие другие женщины. Если она создала его своей любовью, то, презрев его, завершила свое творение: она пустила в свет юношу, для которого стало манией доказывать самому себе, что против него нельзя устоять, даром что какая-то Мария Кросс и устояла. Отныне во все его любовные похождения будет подмешиваться глухая враждебность, желание ранить, заставить свою подружку молить о пощаде. Всю свою жизнь он будет вызывать на глазах других женщин слезы Марии Кросс. И хотя этот инстинкт охотника был у него, несомненно, врожденным, не будь Марии, какая-нибудь слабость могла бы его укротить.
«Из-за этого уличного мальчишки...» Какая гадость! И все-таки в ней продолжало гореть неугасимое пламя, хотя его больше ничто не поддерживало. Ни один человек в мире не будет обласкан этим светом, этим теплом. Куда податься? На монастырское кладбище, где покоится прах Франсуа? Нет, нет, сознайся себе, что возле покойника ты ищешь только алиби. Она так усердно посещала мальчика на кладбище ради сладостных минут, которые проводила на обратном пути рядом с другим, живым мальчиком. Лицемерка! На могиле ей нечего делать, нечего сказать; каждый раз она наталкивалась на нее, словно на дверь без замка, заколоченную навеки. Все равно, что стать на колени прямо посреди улицы... Ее мальчик, ее Франсуа, всегда готовый засмеяться или заплакать, стал горсточкой праха... О ком ей мечтать рядом с этим прахом? О зануде-докторе? Нет, он ей не нужен. Но что пользы в стремлении к самосовершенствованию, если нам на роду написано, чтобы все наши начинания, при самых благих намерениях, казались двусмысленными? Когда Мария гордилась достижением какой-нибудь цели, злое начало в ней ухитрялось обратить это достижение к своей выгоде.
Она никого не желает видеть и никуда не стремится из этой гостиной с рваными портьерами. Может быть, в Сен-Клер? Ее детство в Сен-Клере... Ей вспоминается парк, куда она прокрадывалась, когда уезжало некое религиозное семейство — враги ее матери. Казалось, будто природа дожидалась их отъезда после пасхальных каникул, чтобы сорвать с почек их коричневое облачение. Поднимались папоротники и своей раскидистой пушистой зеленью закрывали нижние ветви дубов, но сосны покачивали все теми же седоватыми макушками, и можно было подумать, будто им нет никакого дела до весны, — пока однажды утром и они тоже не выпускали желтоватое облако пыльцы — дыхание своей любви. Мария находила где-нибудь на повороте аллеи то сломанную куклу, то платок, зацепившийся за терновник. Но теперь она чужая в тех местах и не нашла бы там ничего, кроме песка, на котором когда-то лежала, растянувшись на животе.
Когда Жюстина возвестила, что обед готов, Мария привела в порядок волосы, села за стол и подвинула к себе дымящийся суп. Служанка и ее муж очень хотели через полчаса попасть в кинематограф, и Мария вскоре осталась в одиночестве у окна гостиной. Липа еще не цвела и не благоухала; подняв глаза, Мария увидела уже покрытые тенью рододендроны. Из страха перед небытием, чтобы не захлебнуться, она ищет соломинку, за которую можно было бы ухватиться. «Я поддалась, — размышляет она, — инстинктивному побуждению бежать, которое почти все мы испытываем перед человеческим лицом, искаженным голодом и нуждой. И вот ты уверяешь себя, что эта скотина — совершенно иное существо, нежели мальчик, которым ты восхищалась, — нет, это все тот же мальчик, но в маске: как у беременных женщин бывает на лице маска раздражения, так у мужчин, одержимых страстью, вылезает наружу и пристает к лицу морда сидящего в них животного, часто мерзкая и всегда страшная. Галатея [13] Галатея — нимфа, любившая простого пастуха Акиса. Циклоп Полифем, из ревности, обрушил на него скалу, и тогда Галатея обратила своего погибшего возлюбленного в источник.
бежит от того, кто ее напугал, и в то же время зовет его... Я мечтала о долгом пути, о неспешном продвижении вдвоем от умеренных широт к более знойным, но этот грубиян понесся вперед без оглядки... Почему я не уступила его страсти? Вот когда бы я обрела невыразимый покой, а быть может, и нечто большее... Наверное, нет такой пропасти между людьми, которую не могла бы заполнить любовь... Какая любовь?» Она вспоминает, и рот ее искажается гримасой отвращения, вырывается возглас «фу-у-у!» — ее осаждают назойливые картины: она видит, как от нее, весь красный, бранясь, отходит Ларуссель: «Какого рожна тебе еще надо?»
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу