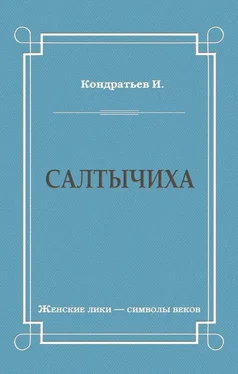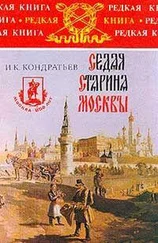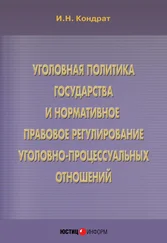– А дело налицо – есть все доказательства, – сообщила государыня.
– Все? – почти машинально спросил Панин.
– Все, Никита Иваныч, все! И удивительно мне, – как-то своеобразно переменила тон государыня, – как это вы тут, умники да разумники, про такие дела ничего-таки не слыхивали! Али вас не занимало это? По стопам Эрнеста Карлыча шли, по стопам Бирона? Что, мол, нам Россия? Провались она хоть совсем, было бы нам хорошо!
Голос императрицы крепчал, и в нем послышалась затаенная горечь.
– Не про тебя говорю, Никита Иваныч, – продолжала она, – говорю про других. Ты был в Дании, в Швеции, ты блюл мне Павлушу. Нет, другие-то что, другие?! Али, может, и сами теми же делами занимались, тоже что на собак на крепостных на своих глядели да глядят еще и теперь?! Так пусть они это позабудут. Жестокости, криводушие и лихоимство мне совсем, сударь, не по душе! Где нет пахотника, там не будет и бархатника! Пусть попомнят это!
Императрица замолчала, но на красивом лице ее изображалось явное волнение. Панину показалось даже, что на глазах императрицы сверкнули две-три слезинки. Добродушный от природы, человек хороший, Панин и сам расстроился и даже чуть не прослезился. Императрица заметила это. «Добрый! – подумала она. – Этот своих крепостных тиранить не станет. Надо сказать ему все».
Но подданный предупредил свою повелительницу.
Панин, этот добрый, мягкий, флегматичный генерал-поручик и александровский кавалер, которому Екатерина была обязана престолом не менее Орловых и которого она несколько стеснялась, привстав, медленно опустился перед императрицей на одно колено.
– Никита Иваныч, что ты! – удивленно произнесла Екатерина, взяв Панина за левую руку, которую он приложил к своему сердцу. – Встань!
– Не встану, государыня, доколе не выслушаешь меня! – сказал Панин голосом, в котором слышались почтительная решимость и то смелое достоинство, которое вырабатывается только у сильного вельможи при дворе сильного властелина.
Екатерина улыбнулась во все свое лицо и несколько вспыхнула. Униженность Панина показалась ей отчасти странной; она не ожидала от него этого.
– Бог мой! – воскликнула она. – Да стой, Никита Иваныч, на коленях хоть до завтра, до прихода Перфильича… [3] Елагин, бывший секретарь императрицы.
ведь ко мне он приходит первым. То-то удивится такому пассажу!
Панин, как бы не расслышав шутливых слов императрицы, начал сдержанным, но твердым голосом:
– Сему, государыня, точно надо положить конец!
– Чему же это? – словно не поняв его, спросила императрица.
– Произволу помещиков, государыня! – еще тверже сказал Панин.
Императрица молчала с минуту, потом встала и молча подняла с колен Никиту Иваныча.
Панин тоже стоял молча и ждал от императрицы слова. Слово это наконец и было произнесено императрицей.
– Быть так, Никита Иваныч! – громко сказала императрица, сухо поведя вокруг глазами.
Панин умиленно поник головой. А императрица продолжала:
– Положу конец тиранству и научу тех, кого следует, знать и ведать, что и крепостные люди – тоже люди!.. Пусть знают, что кнут – не на потеху гнут! Бей за дело да умело, а коль из кнута забаву делают, то кнут-то об двух концах: ино хорош по мужику, а ино хорош и по барину… Как думаешь, Никита Иваныч, – переменила вдруг тон государыня, – что надобно сделать с этой-то… с барыней-то… с этой-то тиранкой своих людей крепостных… с этой-то с Салтычихой, что ли, какой-то? А?
– Надо судить, государыня! – ответил, точно выпалил, Никита Иваныч и даже вздохнул как-то сразу и коротко.
– Именно! Судить надо, судить всенародно! – продолжала медленно императрица. – Да будет всем знамо и ведомо, что царствование свое мы открываем правдой, и правда будет наша первая мать и первая наша всенародная защитница!
Опершись одной рукой на столик, императрица, говоря это, своеобразно приосанилась, выставив несколько вперед из-под платья ногу в синей туфле, и Панину показалось вдруг, что государыня перед ним точно выросла и стала много величественнее прежнего.
– Нет слов выразить о величии поведанного! – только и мог сказать Никита Иваныч, поникая своей белокурой головой в буклях и разводя руками.
Ночью лежа в постели Никита Иванович много раздумывал по поводу слов императрицы.
«Ужель, – думал он, – так-таки и решится государыня предать суду всенародно московскую помещицу? Не взбудоражится ли дворянство? Не взволнуется ли? Поначалу оно бы и не следовало – соблазн велик…»
Читать дальше