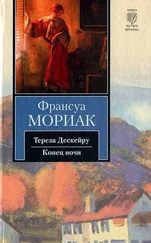И тут у Ива вырвались опрометчивые слова о «побежденных 1870 года», грубость которых отрезвила даже его самого. Бланш Фронтенак встала:
— Теперь он оскорбляет собственного дядю! Выйди отсюда. Чтобы я тебя больше не видела!
Он пересек бильярдную, вышел на крыльцо. Знойный воздух раскрылся перед ним и охватил его со всех сторон. Он углублялся в неподвижный парк Тучи мух гудели, кружась на месте, оводы приклеивались к его рубашке. Он не испытывал никаких угрызений совести, а только унижение оттого, что потерял голову, что случайно разбудил лиха. Ему бы лучше было не горячиться и ограничиться только предметом спора. Они правы: он всего лишь ребенок... То, что он сказал дяде, было ужасно, и ему никогда не будет прощения. Как вернуть себе их расположение? Странно было то, что ни мать, ни дядя не утратили в его глазах ни капли своего престижа. Хотя он был слишком молод, чтобы поставить себя на их место, проникнуть в их рассуждения. Ив не судил их: мама, дядя Ксавье оставались неприкосновенны, они были частью его поэтического детства, откуда они уже не могли вырваться. Что бы они ни говорили, что бы ни делали, ничто, казалось Иву, не в силах отделить их от тайны его собственной жизни. Сколько бы мама и дядя Ксавье ни святотатствовали против духа, дух пребывал в них самих, помимо их воли, освещал их изнутри.
Ив пошел обратно. Хотя из-за грозы небо и потускнело, грома пока не было; цикады больше не пели; только луга, казалось, трепетали. Ив шел впереди, мотая головой, как жеребенок, чтобы спастись от плоских мух, которых он давил у себя на лице и на шее. «Побежденные 1870 года...» Он не хотел никому причинять боль: дети часто шутили в присутствии дяди Ксавье по поводу того, что ни он, ни Бюрт, записавшиеся в добровольцы, не видели ни одного пруссака. Однако на этот раз шутка обрела совершенно иной смысл. Он медленно поднялся по крыльцу, остановился в прихожей. Они еще находились в гостиной. Дядя Ксавье рассказывал: «...Перед тем как вернуться в часть, я захотел в последний раз обнять моего брата Мишеля; я перелез через стену казармы и, когда спрыгивал с нее, сломал себе ногу. В госпитале меня поместили с больными оспой. Я чуть было не отдал там концы. Твой бедный отец, у которого в Лиможе не было никаких знакомых, столько усилий предпринял, чтобы вытащить меня оттуда. Бедный Мишель! Он тщетно пытался завербоваться (в том году он заболел плевритом)... Ему пришлось прожить в этом ужасном Лиможе несколько месяцев, хотя видеться со мной он мог только раз в день не больше часа...»
Дядя Ксавье прервал свой рассказ: на пороге маленькой гостиной снова появился Ив; он видел, как к нему повернулись встревоженные глаза Жана-Луи, желчное лицо матери; дядя Ксавье на него не смотрел. Ив безуспешно пытался найти какие-нибудь слова, но на помощь ему пришел еще живший в нем ребенок; ничего не говоря, он резко рванулся и бросился на шею дяде; он обнимал его и плакал; потом он повернулся к матери, сел к ней на колени, спрятал лицо, как в былые времена, у нее между плечом и шеей.
— Да, милый, ты вовремя одумался... Но нужно контролировать свои слова, держать себя в руках...
Жан-Луи встал, подошел к окну, чтобы не видели его наполнившихся слезами глаз. Он высунул руку и сказал, что на нее упала капля. Все это не помогало. Приближалась невероятная череда дождевых туч, подобно сети, наброшенной на него в этой маленькой гостиной, — наброшенной навсегда.
Дождь прекратился. Жан-Луи и Ив шли к большому дубу.
— Ты не сдашься, Жан-Луи?
Тот не ответил. Засунув руки в карманы, опустив голову, он поддавал ногой сосновую шишку. Поскольку брат продолжал настаивать, он сказал тихим голосом:
— Они утверждают, что это мой долг по отношению к вам. По их мнению, Жозе один не сможет занять подобающее место в фирме. А если я стану во главе, то тогда и он тоже сможет подключиться... И еще они считают, что когда-нибудь даже ты с превеликой радостью присоединишься ко мне... Только не сердись... Они не в состоянии понять, кто ты есть... Представляешь, они доходят до того, что предусматривают, что, может быть, Даниэль и Мари выйдут замуж за людей без положения...
— Ах! Они смотрят так далеко! — вскричал Ив, раздраженный тем, что, по их мнению, он тоже способен закончить свои дни у той же кормушки. — Ах! Они ничего не оставляют на волю случая, организовывают счастье каждого и даже не понимают, что можно хотеть быть счастливым как-нибудь по-другому...
— Для них речь идет не о счастье, — сказал Жан-Луи, — а о действиях, направленных на общее благо и о защите интересов семьи. Нет, речь не идет о счастье... Ты заметил? Это слово они не употребляют никогда... Счастье... Сколько я помню, у мамы на лице всегда было выражение муки и тоски... Если бы папа был жив, я думаю, у него было бы то же самое... Нет, не счастье, а долг... определенная форма долга, которую они принимают без колебаний... И самое ужасное, малыш, состоит в том, что я их понимаю.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу