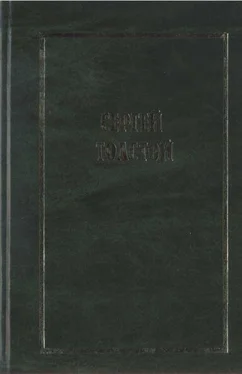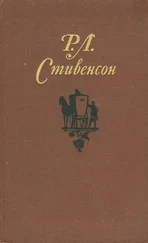— Разве я кому стал бы мешать? — вставляет он наконец. — Вот хоть ты и займись на здоровье. Если хочешь, уйди из полка, занимайся хозяйством. Перечить не стану. У меня уже нет ни сил, ни времени, если же кто из вас попробует — буду рад. Можно, конечно же, кое-что сделать. Везде сделать можно. Однако не так уже это легко и не так вовсе выгодно, как это кажется. С купцом потягаться — не выйдет. Тебя он три раза надует, прежде чем ты разберешься, в чем дело, — на то он купец. Из тебя же купца не получится, даже если бы ты захотел. Он родился и жил по-другому, другому учился. Все, что ты получил в этом доме, для него ненужная гиль, и над чем попотеть пришлось в юнкерском — тоже. Зато он отлично знает свое. А в нашем быту я встречал, и не раз, прожектеров, порою далеко не глупых, которые выписывали из-за границы Мак-Кормиковские молотилки и сеялки, переходили на многополье, заводили бухгалтерский точный учет и нередко пускали детей своих по миру. А машины, что скажешь, машины были хорошие. Помню, пригласил как-то меня князь Гагарин посмотреть на его образцовую ферму молочную. Действительно, было чем любоваться. В коровниках всюду асфальт, чистота, вода постоянно проточная, поилки, доилки, вид у коров, просто скажем, гвардейский, а телята — пажи, даже, кажется, и с маникюром. Я смотрел и хвалил, а потом говорю: «Князь, простите нескромность: где у Вас скотный двор и коровы, те, другие, не образцовые, за счет которых возможно все это держать?» Ну, он сперва покраснел, а потом рассмеялся: «Да, есть, — говорит, — и такое, но только туда не пройдем мы: в навозе утонете…» Так-то вот, друг мой.
Да, многое всем очень ясно. Бюджет наш скромный, трещит и долго не выдержит. Еще два-три года, и кому-то из братьев придется выйти в отставку. А что дальше? Служить? Заниматься в деревне хозяйством? Хорошо было предкам: каждой дочери при выходе замуж в приданое можно было давать по имению. А тут, как тут быть? Все дружны в семье, и никто не противится жить вместе и дальше, но если начнут братья семьями обзаводиться, жить будет им негде и нечем.
Да стоит ли сейчас об этом думать? Вот и Лешиному отпуску уже скоро конец…
Рокочут по вечерам гитарные струны: внизу, в гостиной, Леша музицирует с кузиной Марусей. Меня это очень беспокоит в самом прямом, непосредственном смысле. Я уже лег спать у себя наверху, но гостиная как раз под моей спальней. Мало того, в спальне не очень давно перекладывали печь, и вынутая у печи коротенькая половица так и не заделана — сквозное окно вниз. И вот, вместо того чтобы спать, слушаю:
О, поверь, что любовь — это тот же камин,
Где сгорают все лучшие гре-е-е-зы…
Попробуй усни!
У Леши абсолютный слух, есть и голос небольшой, приятный баритон. Но все-таки, когда же у них кончится? В соседней комнате горит свет; через приотворенную дверь вижу черный угол невысокого отцовского секретера, на нем корзина искусственных роз, сделанных и подаренных ему недавно теткой Козловой. Розы совсем как живые…
«…Англичанин-мудрец, чтоб работе помочь…» — несется снизу. И что им за радость? Встаю потихоньку с постели, подхожу босиком к светлому отверстию в полу, опускаюсь на колени, нагибаюсь. Очень странно увидеть так вот сверху знакомую комнату. Так, наверное, видит ее только муха, ползущая по лепнине потолка, а теперь вот и я. Те же портреты на стенах выглядят иначе. Тяжелая бархатная портьера перегораживает гостиную. Часть ее раздвинута. В углу у портьеры — диван. На нем тетя Катя и Вера. Леша в кресле с гитарой. Ни папы, ни мамы тут нет. «Дубинушка» кончилась. К роялю с привычной, немного жеманной гримаской подходит Маруся. У нее неплохой, но точно какой-то связанный голос. Верно, слишком о многом приходится помнить сейчас: рот не очень открыть — некрасиво, прямо стоять — не сутулиться, плечи назад отвести, вообще, не забыть, что она баронесса, во-первых, и дочь тети Ани она, во-вторых (очень чопорной, очень подтянутой тетки — вечные мне замечания: локти опять на столе; если пьешь — ложку вынь из стакана, пожалуйста; ножкой шаркнуть, как я учила, забыл). Вот и она, тетя Аня, сидит как струна, только голову чуть наклонив, благодушно собрав на своем сухощавом лице складки кожи, предназначенные для соответственного случаю выражения. Приготовилась слушать.
«Отцвели уж давно хризантемы… в с-а-а-а-ду», — я, в такт мелодии сладко зевнув, едва не валюсь на них вниз, потеряв равновесие. Кто-то там, то ли шорох, то ли зевок услыхав, смотрит вверх удивленно, но… я в постели уже; ни любопытного глаза, ни вихра, повисшего под потолком, им уже не поймать…
Читать дальше