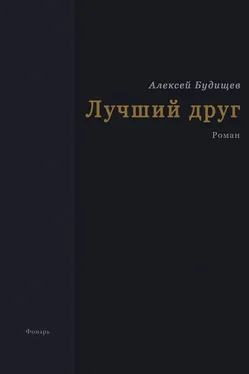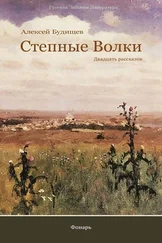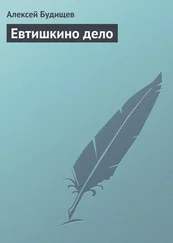День был праздничный; крестьяне деревни Медуновки грелись около хат на завалинках, толкуя о домашних делах. Кондареву то и дело попадались на улице разряженные парни и девушки. Несмотря на жар, некоторые из парней обмотали свои шеи яркими гарусными шарфами, а ноги обули в валенки. Но Бондарева не поражало это; он знал, что медуновцы пользовались некоторым достатком, и их средства позволяли им даже и летом носить гарусные шарфы и валенки.
Кондарев ехал и думал об Опалихине. Он не сомневался ни на минуту, что его десять тысяч за Опалихиным не пропадут. Опалихин считался наилучшим хозяином во всей губернии; если он и делал долги, так только с целью поднять доходность имения, и каждый задолженный им рубль приносил ему изрядный барыш. Кондарев прекрасно сознавал это, и теперь ему было стыдно за подозрение, шевельнувшееся в нем в ту минуту, когда Опалихин выговаривал ему за деньги, выданные взаймы Грохотову. И ревность его улеглась совершенно.
«Сергей Николаевич, — думал он об Опалихине, — человек ума незаурядного и светлого, и вполне порядочен. Да и Таня не из таковских. А что он ухаживает за ней, так это еще ровно ничего не доказывает».
И его думы становились все веселее и радостнее. В усадьбу он приехал уже совершенно успокоенный и повеселевший.
Усадьба Кондарева, раскинутая на той же реке Вершауте, выглядывала щеголевато. Одноэтажный, но поместительный дом ярко сверкал на солнце железной зеленой крышею и весело глядел на примыкавший к нему сад ясными звеньями венецианских окон. Кондарев бодро выпрыгнул из экипажа и тотчас же приказал кучеру запрячь свежую лошадь в дрожки. Его как будто заразила энергия Опалихина; он намеревался сейчас же проехать на один из своих степных хуторков и поглядеть, как идет там ремонт построек, изрядно изветшавших за последнее время.
С повеселевшим лицом Кондарев вошел в дом. В доме все было тихо; дети, очевидно, играли в саду, а тетушка Пелагея Семеновна сидела на балконе и вышивала для Хвалынского монастыря воздухи. Она вышивала их вот уже третий год. Кондарев заглянул и на балкон; румяное и добродушное лицо дородной тетушки его жены всегда сообщало ему некоторую уравновешенность, а теперь ему как будто хотелось усугубить свое настроение необычайной и светлой радости и поднявшихся навстречу жизни сил.
Тетушка, рыхлая сорокалетняя женщина, сидела за пяльцами; почти у самых ее ног, на ступенях балкона, помещалась старая девица Степанида с длинным веснушчатым лицом и ртом, похожим на ижицу. Тетушка шуршала шелками, а Степанида, смешно шевеля своей ижицей, рассказывала ей один из богородицыных снов.
— Шла Матушка-Марея, — говорила она нараспев, — из города Ерусалима; шла она — приустала, легла она — приуснула…
— Видимый сон ей привиделся, — закончил за нее Кондарев и расхохотался звонким ребячьим смехом.
— Ой, чтоб тебя! — испуганно вскрикнула Степанида.
— А где Таня? — спросил Кондарев, все еще смеясь.
Тетушка повернула к нему свое румяное лицо.
— В спальной, книжки читает, — отвечала она.
— Сколько книжек?
— Одну, — совершенно серьезно отвечала тетушка и рассмеялась. — Тьфу ты, — проговорила она сквозь смех, — всегда-то он меня собьет!
Кондарев пошел с балкона и по дороге говорил голосом, похожим на Степанидин:
— Как на дереве кипарисном сидят книжники-фарисеи…
И он слышал, как за его спиной гневно отплевывалась Степанида.
Татьяна Михайловна, худощавая двадцатипятилетняя женщина, гибкая и стройная, сидела в просторном домашнем платье с книгою в руках. Увидев мужа, она отложила книгу в сторону, и ее большие скорбные глаза мягко засветились на бледном лице. Кондарев подошел к ней, тихо снял с низкой скамеечки ее ноги и, примостившись у этих ног на скамеечке, обнял ее стан, спрятав лицо в ее теплых коленях. В комнате было тихо. Дыхание сада вливалось в открытое окно и наполняло комнату свежим и холодноватым запахом молодой жизни. Ни единого звука не врывалось сюда, в это прохладное и целомудренное царство. Только гардины окна мягко шуршали, колеблемые ленивой струей.
И Кондареву казалось, что он ушел от жизни куда-то далеко-далеко и лежит на прохладном дне тихой речки, а над ним мягко шуршат зеленые перья упругого камыша. Светлый восторг наполнил его сердце сладким и мучительным трепетом; все силы его души поднялись до невероятной напряженности, и его душа казалась ему готовой вот-вот постичь какую-то удивительную красоту, какую-то бесконечно прекрасную гармонию. И вдруг, точно под ударом молнии, избыток его сил словно провалился в какую-то пропасть, а светлый восторг превратился в беспросветную скорбь.
Читать дальше