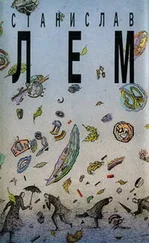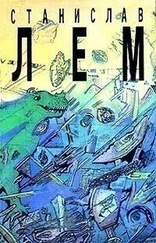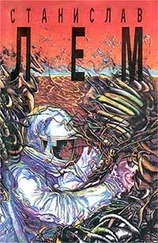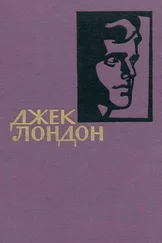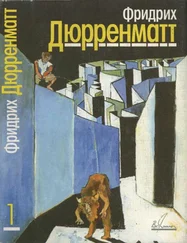Беспощадный луч раннего летнего утра отметил немало других перемен, скользя со строгих гобеленов на бархатистые ковры, свидетельствующие о здравом смысле нынешней знати, отказавшейся от аскетизма предков. Но тут, словно наскучив собственным критическим бесстрастием, заря пожелала одеть все вокруг в колдовской убор: взошло солнце, и в окна, обращенные к востоку, хлынул ровный и несказанно радостный свет. А вместе с ним влетел шмель и устремился прямо к цветам на столе, стоявшем поперек комнаты, за который садились лишь, если гостей бывало немного.
Безмолвно текли часы, и солнце поднялось уже довольно высоко, когда в зале появились первые посетители — три горничные, румяные и говорливые, с половыми щетками в руках. Их сменили два ливрейных лакея, предвестники завтрака; минуту они постояли в молчаливом созерцании, как и положено респектабельным слугам, затем принялись степенно накрывать на стол. Потом заглянула — нет ли тут чего интересного — девчурка лег шести, Энн Шроптон, чадо сэра Уильяма Шроптона и леди Агаты, старшей дочери хозяина дома, пока единственной из четверых молодых Карадоков вступившей в брак. Энн вошла на цыпочках, в надежде захватить врасплох какое-нибудь чудо. На ее круглом личике с вздернутым дерзким носиком сияли ясные, широко распахнутые карие глаза. Полотняное платье, лишь слегка схваченное поясом ниже талии, словно подчеркивало ее полную свободу, и, должно быть, все в жизни казалось ей веселым и забавным. Скоро она и вправду заметила нечто интересное.
— А вон шмель!.. Как по-вашему, Уильям, он приручится, если посадить его в стеклянную коробочку?
— Не думаю, мисс Энн. И берегитесь, как бы он вас не ужалил.
— Меня не ужалит.
— Почему же?
— Потому что.
— Ну, конечно… раз вы так полагаете…
— А когда дедушка велел подать автомобиль?
— В девять часов.
— Я поеду с ним до самых ворот.
— А если он не позволит?
— Ну… тогда я все равно поеду.
— Вот как?
— Я могу с ним ехать до самого Лондона. А тетя Бэбс едет?
— Нет, кажется, его светлость едет один.
— Вот если бы она поехала, и я бы с ней. Уильям!
— Слушаю.
— Дядю Юстаса непременно выберут?
— А как же иначе?
— Как по-вашему, он будет хороший член парламента?
— Лорд Милтоун очень умный, мисс Энн.
— Правда?
— А, по-вашему, разве нет?
— А Чарлз как думает?
— Спросите его сами.
— Уильям!
— Слушаю.
— Мне не нравится в Лондоне. Мне нравится здесь, и в Кэттоне, и дома очень нравится, и я люблю Пендридни… и… и мне нравится Рэйвеншем.
— Я слышал, его светлость собирается по дороге заехать в Рэйвеншем.
— Ой! Он увидит прабабушку. Уильям…
— А вот и мисс Уоллес.
В дверях стояла невзрачная женщина с тусклым, исполненным терпения лицом.
— Пойдем, Энн, — сказала она.
— Иду… Здравствуйте, Симмонс!
— Здравствуйте, мисс Энн! — ответил, входя, дворецкий.
— Мне надо идти.
— Мы все очень сожалеем.
— Ну, конечно.
Дверь легонько стукнула, и просторная зала снова погрузилась в деловитую тишину последних приготовлений к трапезе. Но вот четверо хлопотавших у стола слуг разом отступили. Вошел лорд Вэллис.
Он шел медленно, не отрывая спокойных серых глаз от газеты, и меж его бровей залегла непривычная складка. У него были жесткие волосы и усы, в которых уже проступала седина, лицо загорелое и все же румяное, мужественное лицо человека, который знает, чего хочет, и довольствуется этим, и вся его фигура, ладная, подтянутая, с отличной выправкой, и посадка головы — все подтверждало, что это человек не то чтобы самодовольный, но вполне довольный своим образом жизни и мыслей; Его манера держаться с очевидностью выдавала ту особенную непринужденность, которой обладают люди, постоянно находящиеся на виду, привыкшие не отказывать себе в жизненных благах и удобствах и свободные от необходимости заботиться о мнении окружающих. Он сел на свое место и, все еще не отрываясь от газеты, принялся за еду; он не сразу заметил, что вошла и села рядом с ним его старшая дочь.
— Досадно уезжать из дому в такую погоду, — сказал он наконец.
— Заседание кабинета министров?
— Да. Все та же канитель с аэростатами.
Но темные на нежном узком! лице глаза Агаты в эту минуту озабоченно оглядывали стоявший на буфете особый поднос, на котором кушанья не остывали. «Пожалуй, — думала она, — такой поднос куда лучше наших. Лишь бы только Уильяму эти большие подносы пришлись по душе». Все-таки она спросила своим мягким голосом — ибо и говорила и двигалась она очень мягко, почти робко, пока дело не касалось благополучия ее мужа или детей:
Читать дальше